Богослужение в Свято-Троицком храме Родополиса (Аттика, ИПЦ Греции)
21 декабря/3 января 2016 г.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.
21 декабря/3 января 2016 г.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Российская Православная Церковь.
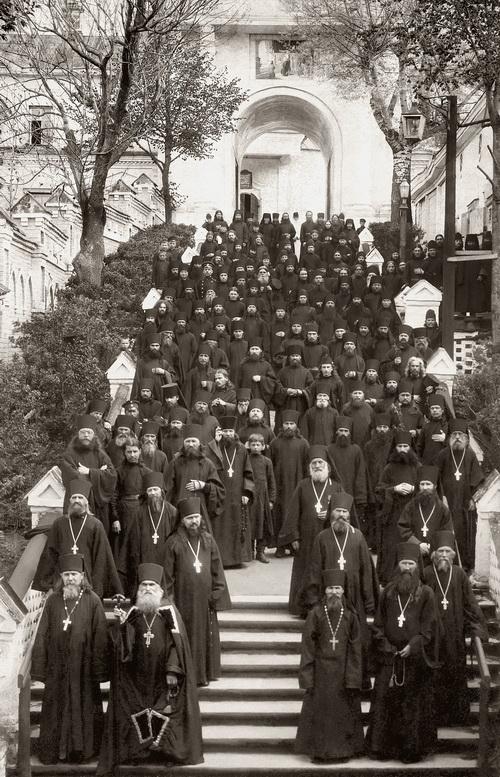 Оптинская смута 1910-1912 гг. – важнейший фрагмент позднего периода истории оптинского старчества. В эти годы, небольшая часть братии выступила против своего настоятеля – архимандрита Ксенофонта (Клюкина), и скитоначальника и старца – преподобного Варсонофия (Плеханкова). Осуждались методы духовного и хозяйственного руководства обителью. Обвинения поддержали некоторые светские влиятельные особы. Использовались как публикации в периодической печати, так и жалобы в епархиальное управление и Св. Синод. Хотя обвинители не смогли ничего доказать, эта кампания достигла значительного успеха – из монастыря был переведен старец Варсонофий, который через год после этого почил (1 (14) апреля 1913 г.).Причины смуты и ход событий получили некоторое освещение в литературе[1]. Вместе с тем, никто из исследователей не пытался рассмотреть эти события, в контексте похожих событий церковной и монашеской жизни начала XX века. Такой контекст очевиден, и в нем выявляется целый ряд похожих, по сути и по времени, явлений. Возможно, этот подход поможет лучше понять происшедшее в Оптиной Пустыни в 1910-1912 гг.
Оптинская смута 1910-1912 гг. – важнейший фрагмент позднего периода истории оптинского старчества. В эти годы, небольшая часть братии выступила против своего настоятеля – архимандрита Ксенофонта (Клюкина), и скитоначальника и старца – преподобного Варсонофия (Плеханкова). Осуждались методы духовного и хозяйственного руководства обителью. Обвинения поддержали некоторые светские влиятельные особы. Использовались как публикации в периодической печати, так и жалобы в епархиальное управление и Св. Синод. Хотя обвинители не смогли ничего доказать, эта кампания достигла значительного успеха – из монастыря был переведен старец Варсонофий, который через год после этого почил (1 (14) апреля 1913 г.).Причины смуты и ход событий получили некоторое освещение в литературе[1]. Вместе с тем, никто из исследователей не пытался рассмотреть эти события, в контексте похожих событий церковной и монашеской жизни начала XX века. Такой контекст очевиден, и в нем выявляется целый ряд похожих, по сути и по времени, явлений. Возможно, этот подход поможет лучше понять происшедшее в Оптиной Пустыни в 1910-1912 гг.
Так, наибольший резонанс получили события на Святой горе Афон в 1909-1913 гг., получившие наименование «Афонская смута». Эта «смута» охватила русские монастыри Афона – Свято-Пантелеимонов монастырь, Андреевский скит, скит Новая Фиваида. Спокойствие сохранялось только в Ильинском скиту. Причиной послужил спор о почитании Имени Божия, вызванный книгой схимонаха Илариона «На горах Кавказа». Суть противоречий и ход событий подробно рассмотрены в имеющейся литературе[2]. События достигли такого накала, что в январе 1913 г. сторонники «имяславия» (одной из двух сторон в этом споре) силою изгнали из Андреевского скита настоятеля архимандрита Иеронима (Беляева) и его сторонников-«имяборцев», объявив их «еретиками, хулителями Имени Божия». Изгнание началось с воинственного клича предводителя смуты иеросхимонаха Антония (Булатовича, бывшего гусара) – «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа – ура!». Подобные происшествия, совершенно революционные по сути и форме, произошли на Афоне и в Пантелеимонове монастыре и ските Новая Фиваида. Настоятель Пантелеимонова монастыря архимандрит Мисаил так и называл основное ядро «имяславцев», во главе с монахом Иринеем (Цуриковым), «революционным комитетом». Ими было составлено «Исповедание Имени Божия». На состоявшемся 23 января 1913 г. монастырском соборе, старшую братию принуждали подписывать этот документ. Монах Ириней говорил настоятелю архимандриту Мисаилу: «Иди скорее, подписывайся к нашему протоколу, или мы иначе с тобою заговорим»[3]. Этот комитет отправился в скит Новая Фиваида, откуда так же был изгнан игумен, и назначен новый из «имяславцев». Дошло до анафематствования тех, кто не признал новое учение, включая иерархов.
Другая обитель, находящаяся на противоположном крае Русского мира – Соловецкий монастырь, так же столкнулась с похожими проблемами. После русско-японской войны 1904-1905 гг. в монастырь поступило много солдат и матросов. Они принимали постриг по обету, целыми отрядами, на льготных условиях, с быстрым рукоположением – по особому указанию Синода[5]. Именно ими был поднято возмущение против талантливого и многолетнего настоятеля архимандрита Иоанникия (Юсова). Он родился в 1850 г. в крестьянской семье в Архангельской губернии. С 1867 г. подвизался в монастыре, в 1880 г. был пострижен в монахи. В 1895 г. избран настоятелем. По его инициативе основывались новые скиты, началось создание прославившей монастырь озерной судоходной системы на Большом Соловецком острове, получил развитие монастырский морской флот. При архимандрите Иоанникии в 1910-1912 гг. на Соловках возникла первая и единственная в России монастырская гидроэлектростанция, в 1914-1916 гг. радиотелеграфная станция, обеспечившая связь с материком. Особой заботой архимандрита стало создание на базе 4-классного монастырского училища 8-классной семинарии, с правом выпуска священников и учителей. Вместе с тем, архимандрит Иоанникий выступал за сохранение уставной строгости монастырской жизни.
В 1913 г. началась монастырская смута. Часть братии, недовольные распоряжениями архим. Иоанникия, выступили против своего игумена, и поскольку никаких серьезных фактов представить они не могли, то стали писать начальству различные клеветнические измышления, обвиняя своего настоятеля в безрассудстве, растратах и даже убийстве. Однако эти доносы не возымели успеха, и смута продолжалась четыре года. Лишь после Февральской революции, 4 августа 1917 г. Синод постановил уволить архимандрита Иоанникия на покой. Прочитав об этом решении Синода в газете, о. Иоанникий перекрестился и сказал: «Слава Богу за все. Мне своих дел не стыдно».
В 1920 г. особая комиссия Губревкома прибыла на острова и стала вывозить запасы продовольствия. Предвидя это, монахи спрятали часть продовольствия и церковных ценностей. Однако, благодаря указаниям иноков, ранее выступавших против архим. Иоанникия, многие из этих ценностей были обнаружены властями. В августе началось следствие по выявлению «виновных в сокрытии», а в монастыре возобновилась смута, теперь уже против архим. Вениамина, на которого стали поступать доносы от монахов в органы власти. Автором одного из них был иеродиакон Вячеслав, один из зачинщиков смуты против архим. Иоанникия. В кон. 1920 г. о. Вениамин был арестован. Погиб архим. Вениамин (Кононов) в 1928 г. Прославлен на Архиерейском юбилейном Соборе Русской Православной Церкви в 2000 г.[6] Архим. Иоанникий (Юсов) почил в 1921 г. на Соловках.
Еще одна прославленная обитель, столкнувшаяся в это время со смутой и клеветой на настоятеля – Глинская пустынь. Эта обитель, так же, как и Оптина пустынь, была известна своей традицией старчества, восходящей к преподобному Паисию (Величковскому). Причем в Глинской пустыни старческое окормление было утверждено уставом. Одним из наиболее известных настоятелей монастыря был схиархимандрит Иоанникий (Гомолко), в мантийном постриге Исаия, управлявшей обителью в 1888-1912 гг. С ним вел переписку святитель Феофан Затворник. Отец Иоанникий много потрудился в деле благоустройства и процветания обители – как внешнего, так и внутреннего. До 1889 г. послушники могли ходить на откровение помыслов к любому духовнику. Отец Иоанникий ввел более строгий порядок – при поступлении в обитель, каждому назначался духовник, которому ежедневно следовало открывать помыслы[7]. При нем началась издательская деятельность пустыни, достигшая значительных размеров. Был втрое расширен Успенский собор. При этом настоятель отличался строгостью, как к себе, так и к братии. Часто братия, принимая от него благословение, получали наставление: «Будь внимателен!» Отец Иоанникий побуждал братию к строгому воздержанию в пищи, ограничивал на трапезе белый хлеб и квас. Он не оставлял без внимания ни малейшей погрешности. После принятия схимы в 1906 г. он значительно усилил строгость к себе, оставаясь настоятелем большой обители.
Зачинщиком смуты стал сосед пустыни отставной генерал-лейтенант П.Митропольский. Он привлек на свою сторону небольшую часть братии, недовольных строгостью настоятеля. Первые клеветнические публикации против схиархим. Иоанникия появились в периодической прессе в 1908 г. Не получив результата клеветники в 1909-1910 гг. направили в Синод шесть заявлений, порочащих настоятеля. Его обвиняли в разорительном ведении хозяйства (как и оптинского настоятеля). Были проведены две ревизии, и дополнительное следствие, по результатам которых не только не подтвердилась виновность настоятеля, но его образ жизни был признан безупречным. Однако вновь назначенный на Курскую кафедру архиеп. Стефан (Архангельский) поверил клеветникам и направил в Синод прошение об увольнении отца Иоанникия от должности настоятеля. 12 марта 1912 г. последовало определение Синода об увольнении 70-летнего старца, и он был удален из обители.
Дальнейшая судьба о. Иоанникия по доступным нам публикациям не прослеживается. Передаются рассказы о его жизни и подвигах, о его наставлениях. Схиархимандрит Иоанн (Маслов) приводит предание, комментировать которое не возьмемся. Согласно этому преданию, когда изгнанный схиархимандрит Иоанникий уходил из обители, был сильный весенний разлив рек. Старец вышел из монастыря, перекрестил воду и на глазах у многих пошел по ней, как посуху, повторив чудо, совершенное некогда преподобным Иоанникием Великим[8].
Эти события, монастырские «смуты», охватили в одно и то же время (1908 г. начало смуты в Глинской пустыни; 1909 г. начало смуты на Русском Афоне; 1910 г. начало смуты в Оптиной пустыни; 1913 г. начало смуты на Соловках) несколько крупнейших русских обителей, которые оказывали значительное влияние на духовное и нравственное состояние общества. Вряд ли стоит говорить о какой-то внешней координации этих возмущений, хотя такая версия, несомненно, найдет своих сторонников. Эти события являлись прямым отражением и влиянием тех процессов, которые происходили в русском обществе. В ходе первой русской революции 1905-1907 гг. подпольная революционная деятельность и массовое недовольство, которое подспудно зрело в обществе, вырвались наружу и охватили все слои общества и все стороны общественной жизни. Несмотря на некоторый спад революционной активности после 1907 г., полностью усмирить эти процессы так и не удалось вплоть до краха государственности в 1917 г. Тех 20 лет спокойствия, о которых мечтал П.А.Столыпин, Россия так и не получила.
Несомненно, революционный, мятежный дух не мог не проникнуть в Церковь, и в монастыри в частности. В монастыри этот дух преимущественно принесли иноки, поступившие в годы революции 1905-1907 гг. или сразу после нее. Это оказало свое влияние на моральный и духовный облик монашества. Древние уставные традиции, в том числе принципы послушания игумену, старцу, – частию монашества ставятся под сомнение. Мирская, революционная идея «справедливости» проникает в монастырские стены.
Повод для подобных нестроений мог быть различным. Чаще всего, священноначалие обвинялось в неправильном ведении хозяйства. В русских обителях Афона, поводом к беспрецедентной по массовости смуте, явились богословские споры. Но даже когда внешней причиной были нарекания в хозяйственной деятельности, итогом смуты всегда являлись не хозяйственные улучшения, а отстранение священноначалия, против которого и поднималась смута.
Для нас, современных людей Церкви, монахов и мирян, так же важно осознавать опасность привнесения духа «мира сего» в церковную жизнь, церковное устройство. Современный человек, человек XXI века, чаще всего хорошо образованный, со своими взглядами, навыками, воспитанный в свободной атмосфере, пришедший к вере в сознательном возрасте, приходя в монастырь, приносит с собою значительную часть своих представлений, привычек, навыков. Труд воспитания, перевоспитания, самовоспитания послушника и монаха в святоотеческих традициях – это серьезная задача как для самого пришедшего в монастырь, так и для его игумена и духовника. Сложность этой задачи сохранялась во все времена. Но особенную актуальность она приобретает в эпоху глубоких изменений, трансформаций не только в духовной, но и в политической и социально-экономической жизни общества.
Исследование влияния общественных, казалось бы далеких от духовных горизонтов, процессов на церковную и монашескую жизнь – интересная и актуальная тема, не получившая еще должного внимания в науке. Светской исторической науке, долгое время находившейся под давлением социально-экономического детерменизма, обусловленного идеологическими штампами, редко удается адекватно рассматривать историю Церкви в контексте социальных, экономических и политических процессов. Здесь, по-видимому, не достает глубины понимания Церкви не как исторического феномена и социального института, а как Тела Христова. В церковной науке, с другой стороны, явное пренебрежение социально-экономическими, политическими, культурными процессами в обществе. Подобные исследования приобретают актуальность в наше время – эпоху глубокой трансформации облика общества, изменений касающихся не только, и не столько, российского общества, но всего человечества. Дальнейшее течение этих изменений еще только угадывается, но их влияние на церковную (в том числе монашескую) жизнь неизбежно.
История минувшего столетия продемонстрировала как негативный опыт жизни монашества в революционную эпоху (монастырские смуты, расколы, отречения), так и выдающийся светлый опыт – Собор новомученников и исповедников Российских. Какие плоды принесет монашество в исторической перспективе, во многом зависит от того духовного фундамента, который закладывается сейчас.
Основные выводы:
Суть рассмотренных событий, которые можно назвать «монастырскими смутами», заключается в бунте части братства против священноначалия – настоятеля монастыря (во всех четырех случаях), а так же против старчества (Оптина пустынь);
Внешним поводом к «смуте» могло быть как недовольство игуменом (Соловки, Оптина и Глинская пустыни), так и богословские споры (русские обители Афона);
Все эти события, несмотря на некоторые отличия (географические, хронологические, повод к смуте, массовость участия братии), являются прямым отражением революционных процессов в русском обществе начала ХХ века, и свидетельствуют о степени их влияния на церковную и монашескую жизнь данной эпохи;
Представляется актуальным исследование влияния общественных (политических, социально-экономических, культурных) процессов на церковную и монашескую жизнь, как в исторической ретроспективе, так и в современности.
Иеромонах Симеон (Кулагин),
насельник Оптиной Пустыни
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Российская Православная Церковь.
 О ВЕРЕ В МОЛИТВЕ
О ВЕРЕ В МОЛИТВЕ
Молясь, нужно так веровать в силу слов молитвы, чтобы не отделять самых слов от самого дела, выражаемого ими; нужно веровать, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело нераздельны: ибо Той рече, и быша; Той повеле, и создашася (Пс. 148, 5). И ты также веруй: что ты сказал на молитве, о чем попросил, то и будет. Ты славословил — и Бог принял славословие, поблагодарил Господа — и Бог принял благодарение твое в воню благоухания духовного. То беда, что мы маловерны и отделяем слова от дела, как тело от души, как форму от содержания, как тень от тела, — бываем и на молитве, как в жизни, телесни, духа не имуще (Иуд. 1, 19), оттого-то и бесплодны наши молитвы.
Молясь, я верую твердо, что: 1) Бог есть един сый и вся исполняяй, следовательно, одесную меня; 2) что я образ Его; 3) что Он бездна благости и 4) Источник всякой благости и что Он Сам уполномочил меня молиться Ему.
Мы молимся за живых, и своею молитвою искреннею привлекаем на них невидимо, незаметно, а иногда и заметно, великие милости Божии и привлекаем их сердца к себе и к Богу и благочестию, молимся за умерших, и они, если имеют дерзновение у Господа, молятся за нас, не оставаясь у нас в долгу, так что Господь возмеривает всегда за любовь, за все добро, которое мы, по искренней любви, делаем в пользу ближних. Испытующий сердца и утробы наградит за искренний вздох, за каждую слезу о ближнем. Сказавший чрез апостола: Молитеся друг за друга, яко да исцелеете, не оставить без плода нашей горячей молитвы. Итак, будем дышать молитвою горячею за всех, как и делает церковь всегда на всякой службе.
Приступая в молитве к Богу, к Богоматери, помни, что как небо отстоит от земли, так ты, по грехам своим, отстоишь от Бога и Божией Матери, и какая разница между светом и тьмою, такая разница между тобою и Богом, и святыми Его, наипаче — Пречистою Его Матерью, святейшею всех небесных и пречистых сил: и будь смирен и благоговеен всегда на молитве, не давая места ни на мгновение никаким мечтам.
Наши молитвы — церковные, домашние, общественные — страдают в нас весьма важным недостатком: поверхностью, или отсутствием глубины и искренности, и поспешностью; от этих двух недостатков часто люди теряют весь плод молитвы, и молитвы наши хоть брось, как говорится: так они бывают пусты, ничтожны, эфемерны! Дело молитвы, — великое дело: она есть беседа с Богом, словесная жертва наша Богу! Кто же для нас Бог, и чем мы Его себе представляем? И пред этим-то всесовершеннейшим, всеправедным, всеведущим, всеблагим, премудрым и всемогущим Существом мы приносим нерадивую, неосмысленную, несердечную молитву, — пред Тем, от Кого мы получили жизнь, дыхание и все! Да будет нам стыдно.
Молитесь о всех близких и дальних искренно, Ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовию своею, хотя с иными всю жизнь не видимся; молитва всех объединяет, согревает, освящает, укрепляет. Когда лениво будешь молиться, то вспомни для пробуждении и поощрения себя: чье у тебя дыхание, чьи уста, чье зрение? Чьи руки и ноги, чей ум в голове? Чье сердце, это чувствилище твое? Чья душа, чья сила, чей дар здравия, чей дар бессмертия и свободы дивной, вожделенной, стремящейся в бесконечность к усовершенствованию и добру, к истине, к бесконечной красоте — к Богу? И тогда верно будешь молиться горячо, со слезами умиления и благодарения. Чье спасение и сохранение твоей жизни ежедневное? Чья помощь непрестанная в делах служения твоего? Чьи утешения непрестанные? Чья любовь, щедро тебе все подающая для двоякого существа твоего?
Полюби сердечно молитву: «Господи, помилуй!» Она научит тебя смирению, покаянию, умилению. Она столь же необходима грешнику, как воздух чистый для дыхания, как верное лекарство больному.
Краткие молитвы: «Господи помилуй», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш» и другие—напоминать должны нам о том, что мы, люди, — существа падшие, грешные, осужденные, достойные всякого наказания и муки, и только верою в Сына Божия, за нас пострадавшего и умершего, избавляемся от осуждения в геенну и от праведного осуждения, только через Него обретаем примирение с Богом и доступ к Отцу Небесному, усыновление и право на наследие вечной жизни и вечной радости; должны жить всегда в покаянии, в смирении, а не возношении, и во всяком исправлении и добродетели, чтобы сделаться достойными Господа нашего Иисуса Христа, своего Искупителя и Спасителя.
Иже восхощет душу свою спасти, погубит ю (ср.: Мф. 16, 25), то есть кто восхощет спасти своего ветхого, плотского, греховного человека, тот погубит жизнь свою: ибо истинная жизнь состоит в том, чтобы распять и умертвить ветхого человека с делами его и облечься в нового, обновляемого по образу Создавшего его (ср.: Кол. 3, 9-10). Без умерщвления плотского, ветхого человека нет истинной жизни, нет блаженства вечного. Чем сильнее и мучительнее умерщвление ветхого человека, тем совершеннее обновление и перерождение его, выше очищение его, тем совершеннее жизнь его и выше блаженство его в будущем веке. Умерщвляй себя и оживешь. Ах! Я сам чувствую, что когда я здоров совершенно и не утруждаю, и не изнуряю себя трудами, я умираю тогда духом, тогда нет во мне Царствия Божия, тогда обладает мною плоть моя и с плотию диавол.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Гонения на верующих.
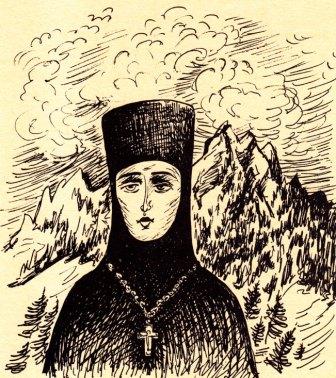 Игумения Антонина и жители пещер в горах Кавказа
Игумения Антонина и жители пещер в горах Кавказа
Память 1/14 марта (+ 193-? г.)
"Тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!"
Лк. 23, 30
Следующий рассказ – это свидетельство подлинного члена катакомбной Церкви княгини Наталии Владимировны Урусовой, которая сама перенесла бескровное мученичество в послереволюционные годы и вплоть до Второй Мировой войны. Ее преступление было в том, что она была твердо верующей христианкой, принадлежала к дворянской семье, поддерживала "иосифлян" и была матерью сыновей-мучеников.
Во Владикавказе, недалеко от вокзала был женский Иверский Богородицкий монастырь.
В монастыре я бывала почти каждый день. Сошлась со многими монахинями, но особенно с доброй матушкой игуменьей Феофанией. Она не была образованной и, видно, происходила из крестьянской семьи, но была чудной смиренной души.
Наступил 1922 год. Прихожу я как-то к ней, и она мне говорит: "Я хочу открыть Вам один секрет, о котором, кроме меня, матушки казначеи и моей келейницы, рясофорной монахини, никто не знает. Пойдемте". Она провела меня через несколько комнат, и в последней, из которой вела винтовая лестница на чердак, сидела другая игуменья. Я сразу поняла, что это игуменья, так как у нее на груди был золотой крест. Она была очаровательна, не только ласковой, какой-то чарующей духовной красотой, но и наружной необычайной красотой. Еще сравнительно молодая. Ей нельзя было дать сорока лет, как ей было. Три месяца, несмотря на зимние морозы, ее скрывали на чердаке и только изредка спускали вниз в эту комнату, чтобы обогреться. Тайна хранилась полная. Ей носила еду и все нужное только келейница. С ней тоже мы очень скоро сошлись и тоже привязались друг к другу. Она была очень образованная, из хорошей дворянской семьи.
Она мне рассказывала свою историю [матушка Антонина (в миру Покровская Вера Александровна) – прим. ред.]. Была игуменьей женского монастыря в городе Кизляре на Кавказе. В начале революции, когда грабили все кругом, и монастыри особенно, к ним ворвалась толпа бандитов-большевиков, разорила все, ограбила и застрелила несколько сопротивлявшихся монахинь.
Когда на короткое время Кизляром овладела Белая армия, то кто-то неизвестный указал им на лиц, разоривших монастырь и убивших монахинь. Они были расстреляны. Когда же Белая армия отступила и большевики стали уже полными хозяевами положения, то стали доискиваться, кто выдал их белым. И вот ее, ни в чем не повинную, обвинили и приговорили расправиться с ней. Господь помог ей бежать ночью, и она дошла до Владикавказского монастыря, где игуменья Феофания ее и спрятала. По всему Кавказу были расклеены объявления: "Кто укажет местонахождение бывшей игуменьи Кизлярского монастыря Антонины, получит за ее голову 3000 руб. золотом". Целых полтора месяца я с ней виделась почти каждый день. Один раз в очень морозную ночь, когда сверх обыкновения лежало и снегу много, в час ночи стучат в мое окно. Все проснулись и перепугались. Кто ночью может стучать, как не ГПУ? Отвернула занавеску и глазам не поверила. Вижу в белой бараньей шубе матушку Антонину, и поддерживают ее с двух сторон мать казначея и келейница Анфиса. "Скорее, скорее отворите, – спрячьте матушку!"
Вошли. Мы погасили свет, чтобы не обращать ночью внимания, и что же услышали? Услышали о необычайном явном чуде Божием. За несколько дней перед этим, о чем я не знала, пришла в монастырь молодая девица, назвавшаяся княжной Трубецкой. Она в слезах просила игуменью ее принять, говоря, что отца и мать ее расстреляли, имение разграбили, и она осталась одинокой в своем горе. Так подделалась и сумела войти в доверие, что игуменья по простоте душевной не только обласкала и приняла, но вскоре рассказала ей о тайне матушки Антонины. Девица тут же скрылась, это был агент ГПУ, разыскивающий матушку Антонину. В ту же ночь монастырь был кругом обложен войсками, никто не мог выйти. Пришли с обыском, требуя выдачи ее. Когда к ней прибежала келейница сообщить ей об этом, она сказала: "Ну, что же делать? Если Господу угодно, чтобы меня нашли, пусть будет так, а если на это Его воли нет, то Он закроет людям глаза и они, видя, не увидят. Пойдем и выйдем посреди них". На нее надели шубу, пошли и просто вышли на глазах у всех красноармейцев из ворот. Командир кричит: "Кто сейчас вышел из ворот, кого вывели?" Они все слышат, так как еще были тут же, за несколько шагов, а красноармейцы отвечают: "Никого мы не видели". – "Да как же, вышел кто-то в белой бараньей шубе и две монахини ее вели". Но все отрицают и не понимают, что такое неладное с командиром. Обыскали, перевернули все и должны были уйти ни с чем. И так ее привели ко мне. Я, конечно, была счастлива, что могла ее спрятать, хотя у нас и было очень для нее рискованно находится, так как мы сами ожидали ежеминутного ареста. Я говорю: "Мне больно то, чем я смогу кормить матушку, ведь мы так плохо питаемся", а монахини говорят: "Да мы будем два раза приносить обед и ужин". Просидели они до утра, матушка Антонина осталась у нас, а они пошли в монастырь и скоро принесли ей еду, что и продолжалось ежедневно по два раза в день в течение двух недель, что у нас жила. Ее нельзя было не полюбить. Дети души в ней не чаяли, и даже муж мой, довольно вообще равнодушный ко многому, уважал и с удовольствием беседовал с ней.
В то время бывали случаи, что можно было за деньги получить тайное убежище у ингушей в горах. Монастырь хотел это сделать, но они запросили такую сумму невероятную, что и все имущество, оставленное монастырю после ограбления, не смогло бы уплатить за нее. Мы решили, что у нас она останется на Божью волю и ничего не предпринимать, тем более, что мы ее так все полюбили. Она страдала ужасно при мысли, что, если ее найдут, то ответит не только она, но и мы. Во всем ее деле было, конечно, чудо и исключительный Промысл Божий. Ведь когда ее в ночь обыска не нашли в монастыре, при чудовищной слежке ГПУ никто не проследил, куда ходят с едой два раза в день монахини.
Так прошло две недели. Я ей, в общей комнате моей с пятью детьми, отделила уголок за занавеской из марли, где была кровать; над головой – икона, и горела висячая лампадочка, принесенная из монастыря. Один раз вижу я, что матушка всю ночь, стоя на коленях, так горячо молится в слезах. Мне через марлю видно, и я спать не могла, ее душевное состояние передавалось и мне.
Рано утром она обращается ко мне и говорит: "Исполните, пожалуйста, мою просьбу. Пойдите к блаженной Анастасии Андреевне и, ничего не говоря ей другого, скажите только: "Матушка Антонина просит Вашего благословения"". Я пошла, она как всегда вышла с приветствием, назвала Марией, спросила, в чем у меня нужда. Я ей сказала, что матушка Антонина просит ее благословения. "Да! Да!.. скажи ей, чтоб ничего не боялась, что задумала и о чем молилась, пусть, пусть исполнит, пусть идет в большой казенный красный дом, пусть идет".
Я передала матушке Антонине ее ответ, и лицо ее просияло. "Я решила сама себя сегодня отдать в руки ГПУ, я очень мучаюсь тем, что вы можете ответить за меня, и если молилась и все же был страх и колебание, то теперь, после слов блаженной меня ничто и никто удержать не может". И дети, и я – в слезы. На что можно надеяться? ГПУ – ведь это непередаваемая страсть. Она ушла, простившись с нами тоже со слезами, но с удивительно спокойным лицом, как бы еще больше просветлевшим и похорошевшим. Она была в мантии и с золотым игуменским крестом на груди. Несмотря на все приказы и требования, она не снимала монашеского одеяния. Прошло немного больше часа. Все мы сидели молча, отдавшись горю, и думали о ее судьбе, как вдруг моя одиннадцатилетняя Наташа, смотревшая в окно, закричала: "Матушка идет!" Она вошла такая радостная, такая необычайно хорошая, что описать нельзя словами. Вот что она нам рассказала: "Я пришла в ГПУ, дежурный спросил, по какому делу. Я ответила, что скажу и назову себя только начальнику. Подошли другие с требованием подчиниться порядку и зарегистрироваться, а я сказала: "Передайте начальнику, что я желаю его видеть и не ему не подчинюсь". Они пошли и доложили. Тот велел передать, что никому не разрешено нарушать закон приема; я ответила, что хочу говорить только с ним. В это время приоткрылась дверь в коридор, и начальник сам выглянул. Увидев меня, он сказал: "Пройдите". Я вошла. "Что вам угодно?" – "Вы за мою голову даете три тысячи рублей, я вам ее сама принесла..." – "Кто Вы?" – "Я – игуменья Антонина Кизлярского монастыря". Он был до того поражен, что встал и говорит: "Вы... Вы игуменья Антонина? И Вы пришли сами к нам?" – "Да, я сказала, что принесла вам свою голову". Он достал из ящика стола мою фотографию, я достала из кармана такую же. "Вы свободны... идите, куда хотите!"
Когда я уходила, он сказал: "Через год я обязан дать Вам какое-либо наказание по закону".
Никто не проследил, куда она пошла из ГПУ, никто нас не тронул. Она поселилась открыто в монастыре, где прожила год.
Впоследствии я узнала, что ее назначили на один год прислуживать в коммунистической гостинице Ростова. Она все так же не сняла ни мантии, ни креста. Ни один коммунист не допускал ее прислуживание, все относились без злобы и оскорблений и кланялись ей. В 23-м году еще возможны были такие факты, но, конечно, возможны как продолжение бывшего с ней явного чуда. Через 12 лет я встретилась в Казахстане, в городе Актюбинске, где жила с высланным туда сыном, тоже с ссыльным архимандритом Арсением. Как-то я вспомнила о ней в разговоре, и вдруг он говорит: "Матушку Антонину, да я ее хорошо знаю и могу Вам о ней сообщить. По окончании срока наказания, она собрала около себя 12 монахинь и поехала в Туапсе с целью высоко в горах основать тайный скит. В то время многие монахи из разоренных монастырей надеялись отшельнически поселиться в горах для избавления от гонений большевиков. Но ГПУ было хитрее. Лесниками были поставлены сыщики и агенты, которые обнаружили все скиты и жилища отшельников, из которых почти все были на месте расстреляны. Когда игуменья Антонина поднялась на вершину большой высокой горы, то встретилась с одним монахом из того скита, где был и я. Наши монахи предложили и немедленно исполнили и вырыли, как было и у нас, под корнями громадных деревьев вроде пещеры для помещения и затем оборудовали и церковь. Недолго прожили мы, с радостью помогая им в трудах. Из 14 монахов меня одного как еще юного по сравнению с другими не расстреляли, а сослали на восемь лет в дальний лагерь Сибири, по окончании восьми лет – в Алма-Ату на поселение. Игуменья Антонина и ее монахини были арестованы, но не расстреляны на месте, а куда-то увезены. О дальнейшей судьбе этой замечательной монахини ничего не знаю".
И это все, что княгиня Наталья Владимировна Урусова рассказала об этой святой игумении в своих воспоминаниях, которые вышли под названием "Материнский плач Святой Руси". Однако протопресвитер Михаил Польский, публикуя этот материал во II томе "Новых мучеников Российских" (стр. 248) добавляет к ее рассказу свои собственные воспоминания, связанные с югом России (т. III в рукописи, публикуется ниже), давая более широкую картину страданий христиан на Кавказе и освещая жизнь мучеников, до того неизвестных.
"В 1928 году или в начале 1929 года в Кавказских горах была отыскана и расстреляна группа имяславцев, монахов-подвижников, высланных с Афона после известного имяславского движения. Во главе их стоял Павел Дометич Григорович, дворянин, помещик и ротмистр из Киевской губернии, который после двадцати лет монашества по призыву в армию был на войне 1914 года и после ее окончания, в революцию вернулся в Кавказские горы и носил имя Пантелеимона. Составитель этой книги был с ним лично знаком, как и с другими имяславцами, потому что в 1918 году во время гражданской войны и власти белых на Кубани, у кубанских миссионеров (среди которых был и он) состоялось несколько совещаний с имяславцами в целях примирения их с Православной Церковью в догматическом споре об имени Божием. Был выработан целый ряд догматических положений, которые и были подписаны обеими сторонами. Имяславец монах Мефодий был законно рукоположен в иеромонахи для бывших имяславцев и отправлен к ним в горы. Но вскоре между ними опять произошел спор. Отец Мефодий остался верен выработанным православным положениям и покинул горы, но в дороге на одной из станций был расстрелян большевиками. Расстрелянные через десять лет после этого монахи-подвижники и пустынножители были, конечно, представлены большевиками как опасная контрреволюционная организация. В 1930 году пишущий эти строки сам пытался остаться в России и в Кавказских горах, но, повстречав пустынножителей, выяснил, что пребывание там делается невозможным: все оказались на учете в ближайших селениях, а некоторые ушли в "непроходимые" дебри и на вершины, о месте пребывания которых никто не знал. Рассказ о матушке Антонине нам объясняет, что и с последними было покончено.
Мученики Нового Афона
Нужно упомянуть, что самым крупным монашеским центром в этом регионе был знаменитый монастырь святого апостола Симона Кананита, больше известный как Новый Афон. В 1928 году было разрушено все, что оставалось от этой истинной лавры с несколькими сотнями обитателей строгого монашеского уклада. За сравнительно короткий период своего существования, начиная с конца XIX века, монастырь обрел и великую славу, и большое богатство, он был очень хорошо устроен и был примером для других монастырей по всему православному миру. В тот год все монастырское имущество было разграблено, все порушено, и, наконец, те сто сорок монахов, которым удалось избежать арестов вначале, спрятавшись в лесу, были пойманы и доставлены в новочеркасскую тюрьму. Монахов допросили и после их отказа сделать заявление о признании ими советской власти властью от Бога установленной разделили на группы и отправили в камеры пыток в подвале здания НКВД. Там жестоко били и пытали. Ночью их вывезли за десять километров от Новочеркасска и, выстроив у стены, расстреляли. Про эту стену все жители города хорошо знали.
Все православные христиане должны помнить этих мужественных рабов Христовых, принявших за верность Ему мученическую смерть.
Святой отшельник Макарий
Во время гонений на Церковь и ее священнослужителей в лесу в ущельях кавказского предгорья, около станции Подгорной по Владикавказской железной дороге в глуши, в 20 километрах от жилья появился старец-отшельник. Это было в 1923 году. Прибыл он из центральной России, но точно никто не знал откуда.
В глухом месте в лесу была у него выкопана пещера. Там он жил и там была у него устроена церковка. Катакомбная поистине церковь. В ней престол был сделан из камня, были иконы и бедная, но вся необходимая церковная утварь. Отец Макарий в этой церкви совершал Богослужения, а когда о нем узнали верующие люди, стали приходить к нему. Здесь причащались Святых Таин, и совершались всякие требы. Число приходящих к отцу Макарию возрастало и дошло до того, что почти каждый день у него были молящиеся.
Отцу Макарию было около 65 лет. Это был действительно подвижник, молитвенным подвигом прославившийся и прославленный от Бога даром прозорливости. Он говорил людям их сокровенные помыслы и дела. Началось паломничество из окрестных станиц Кубани и городов. Паломников отец Макарий встречал всегда версты за две от своей пещеры и провожал их к себе. Его никто не предупреждал о приближении паломников, он сам прозревал это духом. Верующие люди находили здесь духовную отраду и окормление. Ведь в это время церквей почти не осталось во всей округе, и люди искали пастыря, как осиротевшие овцы.
До 1928 года жил в своем уединении отец Макарий. В этот страшный год большевики решили покончить с этой церковкой. Они уже знали о ней, но еще не добирались. Потом отправились на его поиски и арестовали его. Тайно не смогли забрать отца Макария. Народ узнал о его аресте и бросился к нему прощаться. Отец Макарий шел под стражей, благословлял народ, прощаясь с ним. В далекой ссылке был замучен пастырь гонимой катакомбной Церкви.
Святые, укрытые Богом
После Второй Мировой войны в русских эмигрантских кругах ходила брошюра под названием "Почему я тоже верю в Бога". В ней автор, который раньше был летчиком и атеистом, описывает, как его отправили выследить группу монахов и священников, прячущихся высоко в горах Кавказа. Это, должно быть, было в самом начале войны. Однажды он заметил на высокогорном плато группу оборванных людей. Увидев самолет, они бросились бежать. Пилот ясно видел, как они, очевидно, направляясь в сторону своего убежища, бежали к глубокой расщелине, рассекающей плато. Добежав до бездны, они, перекрестившись, продолжили бежать по воздуху (!) и, благополучно достигнув другой стороны расщелины, скрылись из виду среди скалистых утесов. Ошеломленный летчик сразу же поверил в Бога, Который укрыл своих верных рабов от глаз злых людей, но дал ему возможность быть свидетелем этого великого чуда русских катакомбных святых ради спасения его души.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.
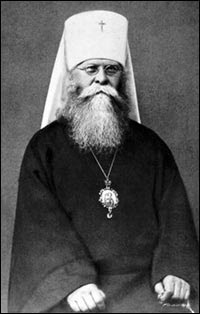 Священномученик Иосиф (Петровых) - Митрополит Петроградский, (в миру Иван Семёнович Петровых).
Священномученик Иосиф (Петровых) - Митрополит Петроградский, (в миру Иван Семёнович Петровых).
Родился 15 декабря 1872 года в городе Устюжне Новгородской губернии в мещанской семье. Крещен младенец Иоанн был, как и все его братья и сестры, в приходской церкви Вознесения Господня на Всполье. Глубокая вера и стремление послужить Богу отмечались у него с раннего детства.
Окончил Устюженское духовное училище и Новгородскую духовную семинарию, после чего направлен за казённый счёт в Московскую духовную академию, которую окончил в 1899 первым по списку со степенью кандидата-магистранта. Оставлен профессорским стипендиатом при академии.
9 сентября 1900 г. Иоанн был утвержден исполняющим должность доцента академии по кафедре Библейской истории. Но карьера ученого не привлекала его, стремившегося к своей давней мечте - иночеству. Зародилась она еще в то время, когда Иоанн Семенович был семинаристом. Студентом академии он любил посещать святые обители и святые места. Там черпал силу и получал благодатную помощь Божию. Им были совершены паломничества в Соловецкий монастырь, во святой град Иерусалим, на святую гору Афон, в Ново-Афонский монастырь. Во времена зимних каникул, уклоняясь от светских развлечений и увеселений, Иоанн уезжал в любимый им Антониев монастырь в Новгороде. Именно там он и провел последние недели лета 1901 г., готовясь к иноческому постригу, уходя в себя и сосредоточиваясь в молитвах.
Пострижение в монашество было совершено 26 августа 1901 г. в Гефсиманском скиту, что неподалеку от Троице-Сергиевой Лавры, с наречением именем Иосиф. Чин пострижения совершил преосвященный еп. Волокололамский Арсений (Стадницкий), ректор Московской Духовной академии. Божественную литургию служил инспектор академии архимандрит Евдоким (Мещерский) совместно с новгородским епархиальным миссионером иеромонахом Варсонофием (Лебедевым) и монастырскою братиею. Хор пел лаврский, нарочно прибывший в скит на пострижение Иоанна.
После совершения пострига епископом Арсением было сказано Иосифу слово, которое имело руководящее значение для всей его последующей деятельности: «Теперь, когда хулится имя Божие, молчание постыдно будет и сочтено за малодушие или безчувственную холодность к предметам веры. Да не будет в тебе этой преступной теплохладности, от которой предостерег Господь. Работай Господеви духом горяще». Слова эти были восприняты как завет и хранились в душе Владыки всю жизнь, имея огромное значение для его деятельности. 30 сентября того же года монах Иосиф был рукоположен во иеродиакона, а 14 октября - во иеромонаха.
В июне 1903 удостоен степени магистра богословия за диссертацию на тему «История Иудейского народа по Археологии Иосифа Флавия (Опыт критического разбора и обработки)». С 9.12.1903 экстраординарный профессор и инспектор Московской духовной академии.
 Хиротония во епископа Угличского, викария Ярославской епархии происходила 15 марта 1909 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Совершали ее следующие архиереи: митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), митрополит Московский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский Флавиан, архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский) в сослужении многочисленного духовенства. В то время Владыка стремился как-то осмыслить свои движения и настроения, понять себя. Именно тогда он понял, что выбрал правильный жизненный путь. Преосвященный Иосиф очень любил служить литургию и служил ее каждый день. В трудные моменты жизни Владыка стремился пребывать в любви к Богу и Божией Матери, в молитвах просил у Них помощи, и Господь посылал ему утешение.
Хиротония во епископа Угличского, викария Ярославской епархии происходила 15 марта 1909 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Совершали ее следующие архиереи: митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), митрополит Московский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский Флавиан, архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский) в сослужении многочисленного духовенства. В то время Владыка стремился как-то осмыслить свои движения и настроения, понять себя. Именно тогда он понял, что выбрал правильный жизненный путь. Преосвященный Иосиф очень любил служить литургию и служил ее каждый день. В трудные моменты жизни Владыка стремился пребывать в любви к Богу и Божией Матери, в молитвах просил у Них помощи, и Господь посылал ему утешение. Мы не располагаем достоверными сведениями о том, как Владыка Иосиф встретил февральскую революцию 1917 г. Его заявления на допросах 1930 г. о лояльности к советской власти и отмежевании от «старого режима» сами по себе вряд ли говорят о каких-то его антимонархических, либеральных взглядах, тем более, если принять во внимание условия, в которых они были сделаны. Примечательно, что во введении к следственному делу чекисты называют митрополита Иосифа «махровым монархистом», а его дневник «В объятиях Отчих» сравнивают с творениями святого Иоанна Кронштадтского, по их определению, «церковного апологета монархизма». Очевидно, что как искренний православный архипастырь, Владыка Иосиф понимал истинное значение Православного царства и поэтому глубоко скорбел, видя, как далеко отошла от этого идеала христианской государственности императорская власть Петербурга. Так что, вполне вероятно, что несочувствие епископа Иосифа «старому режиму» было вызвано не либерализмом, а напротив, самым последовательным монархизмом, так же как и у других выдающихся иерархов того времени. В его дневнике есть такая характерная запись от 30 июля 1909 г.: «Невозможно быть истинным слугою земного Царя, не будучи истинным слугою Божиим. Только истинный Божий слуга имеет все побуждения и средства быть верным слугою Царя и полезным членом Церкви и Отечества».
Мы не располагаем достоверными сведениями о том, как Владыка Иосиф встретил февральскую революцию 1917 г. Его заявления на допросах 1930 г. о лояльности к советской власти и отмежевании от «старого режима» сами по себе вряд ли говорят о каких-то его антимонархических, либеральных взглядах, тем более, если принять во внимание условия, в которых они были сделаны. Примечательно, что во введении к следственному делу чекисты называют митрополита Иосифа «махровым монархистом», а его дневник «В объятиях Отчих» сравнивают с творениями святого Иоанна Кронштадтского, по их определению, «церковного апологета монархизма». Очевидно, что как искренний православный архипастырь, Владыка Иосиф понимал истинное значение Православного царства и поэтому глубоко скорбел, видя, как далеко отошла от этого идеала христианской государственности императорская власть Петербурга. Так что, вполне вероятно, что несочувствие епископа Иосифа «старому режиму» было вызвано не либерализмом, а напротив, самым последовательным монархизмом, так же как и у других выдающихся иерархов того времени. В его дневнике есть такая характерная запись от 30 июля 1909 г.: «Невозможно быть истинным слугою земного Царя, не будучи истинным слугою Божиим. Только истинный Божий слуга имеет все побуждения и средства быть верным слугою Царя и полезным членом Церкви и Отечества». 26 августа 1926 г. архиепископ Иосиф распоряжением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) был переведен на Ленинградскую кафедру и возведен в сан митрополита Ленинградского с возложением белого клобука с алмазным крестом и креста на митру. Возражая против именования митрополитом Ленинградским, Владыка Иосиф предпочитал называться митрополитом Петроградским.
26 августа 1926 г. архиепископ Иосиф распоряжением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) был переведен на Ленинградскую кафедру и возведен в сан митрополита Ленинградского с возложением белого клобука с алмазным крестом и креста на митру. Возражая против именования митрополитом Ленинградским, Владыка Иосиф предпочитал называться митрополитом Петроградским. На следующий день, в воскресенье, несмотря на дождь, площадь перед собором была переполнена народом. Многие подходили под благословение со слезами. По просьбе митрополита прот. Николай Чуков сказал по запричастном стихе слово, а на следующее утро был у него с докладом о руководимых им Высших Богословских курсах и остался доволен оказанным приемом.
На следующий день, в воскресенье, несмотря на дождь, площадь перед собором была переполнена народом. Многие подходили под благословение со слезами. По просьбе митрополита прот. Николай Чуков сказал по запричастном стихе слово, а на следующее утро был у него с докладом о руководимых им Высших Богословских курсах и остался доволен оказанным приемом. На защиту митрополита Иосифа встали его викарии: епископы Димитрий Гдовский, Серафим Колпинский, Сергий Нарвский, Григорий Шлиссельбургский и ряд клириков, отказавшихся поминать епископа Николая. Среди них центральное место принадлежало известному и очень уважаемому настоятелю кафедрального храма, отцу Василию Верюжскому.
На защиту митрополита Иосифа встали его викарии: епископы Димитрий Гдовский, Серафим Колпинский, Сергий Нарвский, Григорий Шлиссельбургский и ряд клириков, отказавшихся поминать епископа Николая. Среди них центральное место принадлежало известному и очень уважаемому настоятелю кафедрального храма, отцу Василию Верюжскому. Официально Акт об отделении от митрополита Сергия был зачитан в кафедральном Соборе Воскресения Христова. 24 января 1928 г. в секретном донесении из Ленинградского ГПУ в Москву сообщалось:
Официально Акт об отделении от митрополита Сергия был зачитан в кафедральном Соборе Воскресения Христова. 24 января 1928 г. в секретном донесении из Ленинградского ГПУ в Москву сообщалось:Арестованный Владыка сначала содержался в одной из ленинградских тюрем, затем был этапирован для дальнейшего следствия во внутреннюю тюрьму ОГПУ в Москве.
C января 1937 г. митрополит Иосиф установил переписку и с митрополитом Кириллом, сосланным в 1935 г. также в Казахстан в поселок Яны-Курган. На допросе 14 июля 1937 г. митрополит Иосиф показывает, что с митрополитом Кириллом он лично знаком не был и видел его единственный раз в жизни в 1909 г., но в январе 1937 г. он направил к нему с архимандритом Арсением письмо, в котором «свидетельствовал владыке свое глубочайшее почтение, говорил, что преклоняюсь перед его мужественным стоянием в его борьбе за церковные интересы. Это было с моей стороны пробным камнем для выяснения отношения митрополита Кирилла ко мне и установившейся за мной репутации главаря особого церковного движения. От митрополита Кирилла Арсений привез ответ, который вполне удовлетворил меня».
 В обвинительном заключении от 19 ноября 1937 г. говорилось: «Петровых Иосиф являлся заместителем Смирнова К.И. и, в случае ареста последнего, Петровых должен был возглавить контрреволюционную деятельность организации. Помимо этого, Петровых проводил работу по концентрации контрреволюционных сил церковников вокруг контрреволюционной организации, вел новую вербовку членов и организовывал контрреволюционные ячейки на местах».
В обвинительном заключении от 19 ноября 1937 г. говорилось: «Петровых Иосиф являлся заместителем Смирнова К.И. и, в случае ареста последнего, Петровых должен был возглавить контрреволюционную деятельность организации. Помимо этого, Петровых проводил работу по концентрации контрреволюционных сил церковников вокруг контрреволюционной организации, вел новую вербовку членов и организовывал контрреволюционные ячейки на местах».Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.
 28 августа/10 сентября 1963 г.
28 августа/10 сентября 1963 г.
Прошелъ примѣрно годъ со времени твоего посѣщенія, и мы уже почти чужіе другъ другу. Конечно, это, главнымъ образомъ, моя вина, поскольку я безнадежно безотвѣтственный корреспондентъ. Но постараюсь время отъ времени писать, надѣюсь, что и ты будешь дѣлать то же самое.
Я очень интересуюсь твоей англоязычной православной церковью и хотѣлъ бы больше узнать о ней и о священникѣ. Хотя я самъ вполнѣ удовлетворенъ славянской церковью и, дѣйствительно, ощущаю себя скорѣе русскимъ, а не американцемъ, понимаю, что нельзя ожидать того же самаго отъ многихъ новообращенныхъ. Правда, одна изъ главныхъ трудностей, которыя встрѣчались мнѣ въ моихъ скромныхъ миссіонерскихъ попыткахъ, – это языковой и культурный барьеръ. Людей неизмѣнно завораживаютъ службы на славянскомъ языкѣ, но болѣе близкое знакомство съ Церковью для нихъ исключено. Какіе успѣхи у твоего прихода? Проводите ли вы какую-либо организованную миссіонерскую дѣятельность? Я знаю, что владыка Іоаннъ и отецъ Леонидъ (изъ Свято-Тихоновской) хотятъ здѣсь начать что-либо въ этомъ родѣ (т.е. миссіонерскую дѣятельность), и у Глѣба имѣются какіе-то свои идеи по этому вопросу. Но пока что ничего не начато.
Я помню, въ прошломъ году говорилъ тебѣ, что на это Рождество собираюсь въ Джорданвилль. Однако, поскольку я не смогъ работать болѣе пяти мѣсяцевъ, скопленныя на жизнь деньги къ настоящему моменту кончились, и сейчасъ я вернулся на работу (въ качествѣ помощника оффиціанта снова, но въ болѣе пріятномъ мѣстѣ). Книга, которую я пишу, уже въ гораздо лучшемъ видѣ, хотя все еще далека отъ завершенія. Она превращается въ изученіе послѣдствій атеизма сравнительно съ послѣдствіями вѣры (историческими, психологическими, духовными, философскими, богословскими). Иногда я отчаиваюсь отъ того, что работа моя получается слишкомъ абстрактной и философской и поэтому никто не заинтересуется ею и не прочитаетъ ее. Въ настоящее время работаю надъ эссе (и оно тоже выходитъ длиннымъ, какъ и книга) о личности и вліяніи папы Іоанна XXIII въ духѣ "Великаго инквизитора" Достоевскаго и надѣюсь заинтересовать имъ отца Константина.
Владыка Іоаннъ, какъ ты, должно быть, слышала, былъ утвержденъ архіепископомъ Сан-Францисскимъ, и хотя надо еще много сдѣлать, чтобы въ этой епархіи установился, наконецъ, миръ, но, по крайней мѣрѣ, въ ней есть сейчасъ какое-то подобіе порядка. Думаю, что наконецъ-то снова началась работа надъ новымъ соборомъ. Среди нашихъ епископовъ я больше всего люблю владыку Іоанна, хотя и нахожу, что понимать его почти невозможно. Онъ постоянно исполненъ такого глубокаго мира и радости, что просто находиться въ его присутствіи благотворно для души. За послѣдніе мѣсяцы я нѣсколько разъ присутствовалъ при очень острыхъ моментахъ, когда Владыка былъ окруженъ взволнованными, плачущими, фактически истерическими толпами (ну знаешь, какими могутъ быть русскіе!), но онъ былъ точно такой же, какъ всегда, спокойный и даже радостный, отрицая всѣ гнѣвныя обвиненія противъ другихъ епископовъ и призывая всѣхъ къ духовному миру и послушанію.
Владыка Савва пробылъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ и многое сдѣлалъ въ защиту владыки Іоанна. Онъ все еще питаетъ большія надежды на основаніе монастыря (хотя Глѣбъ, какъ обычно, настроенъ пессимистически по этому поводу), но, очевидно, онъ ничего не сдѣлаетъ, пока не уѣдетъ изъ Эдмонтона и не устроится постоянно въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ. Будучи здѣсь, онъ искалъ потенціальныхъ монаховъ, но пока что опредѣлился только одинъ Джонъ. Что касается меня, мнѣ еще надо закончить книгу и посмотрѣть Джорданвилль, прежде чѣмъ я сдѣлаю свой выборъ. Ты случайно не знаешь какихъ-нибудь потенціальныхъ монаховъ? А какъ твои собственныя надежды, ближе ли онѣ къ исполненію? Мало такихъ людей, которые думаютъ о монашеской жизни или принимаютъ ее всерьезъ, даже среди русскихъ: напримѣръ, мать Глѣба дала мнѣ нѣсколько весьма "практическихъ" совѣтовъ, почему мнѣ не слѣдуетъ становиться монахомъ.
Недавно дѣвушка, которую я зналъ въ колледжѣ, написала мнѣ послѣ исчезновенія на нѣсколько лѣтъ. Я отчаялся когда-нибудь снова получить отъ нея письмо, и обстоятельства заставляютъ меня повѣрить, что въ этомъ возстановленіи контакта есть духовный смыслъ – короче, я думаю, что Господь нашъ желаетъ привлечь ее къ Святому Православію. Въ послѣдній разъ, когда я ее видѣлъ, она была ревностной приверженкой англиканской церкви, обладающей высокимъ духовнымъ сознаніемъ и великой любовью ко Всевышнему. И въ то же самое время у нее какая-то импульсивность въ духѣ Достоевскаго, которая время отъ времени вовлекаетъ ее въ странныя приключенія. Всегда мечтая стать монахиней, она нѣсколько разъ неудачно побывала замужемъ. Вина за неудачу брака не всегда лежитъ на ней: напримѣръ, мужъ просто бросилъ ее беременную, или же, если вина была ея, то заключалась она въ излишней довѣрчивости, съ которой она полагалась на свои первыя впечатлѣнія о людяхъ. Въ данное время она живетъ на фермѣ съ мужчиной, за котораго вышла замужъ отъ отчаянія, и ребенкомъ отъ предыдущаго брака. Она кажется довольной, и я знаю, что она способна, если потребуется, долго молча переносить страданія, но, хотя интеллектуальныхъ сомнѣній въ Христіанской Истинѣ у нея нѣтъ, она считаетъ, что ее вѣра болѣе или менѣе мертва. Я собираюсь, какъ только у меня появятся деньги, посылать ей книги и иконы (она рада имъ), но въ чемъ она нуждается болѣе всего, такъ это въ общеніи съ настоящими вѣрующими и единомышленниками. Прости меня за то, что загружаю тебя всемъ этимъ, но если ты почувствуешь въ сердцѣ своемъ потребность сдѣлать это, пожалуйста, напиши ей что-нибудь (я упоминалъ ей о тебѣ, но ничего о тебѣ не разсказалъ); просто засвидѣтельствуй, что христіане все еще есть (она чувствуетъ, что въ англиканской и католической церквяхъ "чего-то не хватаетъ", и на нее произвела впечатлѣніе искренность тѣхъ двухъ русскихъ православныхъ службъ, которыя она посѣтила). Я увѣренъ, что вы обѣ будете довольны. Ея адресъ: Mrs. Charles Bradbury, Route 1, Ursa, Illinois. (Ея имя – Алисонъ.)
Молись, пожалуйста, за нее и за меня, недостойнаго грѣшника, но собрата. Джонъ обѣщаетъ написать въ скоромъ времени. Ждемъ писемъ также и отъ тебя.
Твой братъ во Христѣ.
12 сентября 1963 г.
Видишь, я – безотвѣтственный корреспондентъ. Началъ это письмо двѣ недѣли назадъ, что само было уже довольно поздно, а потомъ снова началъ работать (въ качествѣ помощника оффиціанта въ ресторанѣ!) и слишкомъ уставалъ, чтобы закончить его. Пожалуйста, прости меня за такую долгую задержку съ отвѣтомъ на твое письмо.
Думаю, ты совершенно права въ томъ, что въ западныхъ церквяхъ чего-то не хватаетъ; я думаю, что не хватаетъ именно вѣры. Уже нѣсколько столѣтій люди все чаще обращаютъ свой взоръ на землю и пытаются воплотить въ жизнь свою фантазію о счастьѣ на землѣ и комфортной жизни въ міру. Въ такомъ мірѣ даже тѣ, кто все еще вѣритъ въ міръ иной, чувствуютъ, что сохранить свою вѣру имъ все труднѣе; "духъ нашего времени" настолько опредѣляется земными заботами, что человѣкъ вѣрующій начинаетъ сомнѣваться въ своемъ собственномъ здравомысліи, если продолжаетъ вѣрить въ то, что "всѣ" считаютъ невѣроятнымъ. Но то искушеніе преходящее, есть кое-что похуже, и ты это уже замѣтила: люди внѣшне продолжаютъ вѣрить, совершаютъ всѣ христіанскіе обряды, но суть вѣры испарилась. Духъ міра настолько силенъ и убѣдителенъ, что онъ дѣйствуетъ на насъ, хотя мы этого и не осознаемъ. Конечно, міръ всегда воевалъ противъ Христіанской вѣры, но сегодня онъ очень близокъ къ побѣдѣ въ этой брани. Помнишь ли ты страшныя слова Господа нашего: "Сынъ Человѣческій пришедъ убо обрящетъ ли си вѣру на земли?" (Лк. 18, 8) Въ послѣдніе времена вѣрѣ предстоитъ быть почти полностью уничтоженной. Но все же видимость вѣры, возможно, будетъ сохранена; антихристъ, какъ мы знаемъ, попытается пародировать Христа. Возможно, "всемірная церковь", которая сегодня формируется экуменическимъ движеніемъ (центръ которой, конечно, будетъ въ Римѣ), въ цѣлости сохранитъ большинство обрядовъ и догматовъ Христіанства, но суть его, истинная вѣра, будетъ отсутствовать, и поэтому будетъ просто имитація Христіанства. Сейчасъ я пишу эссе по этой темѣ въ связи "новымъ христіанствомъ" папы Іоанна XXIII и пошлю тебѣ экземпляръ, когда (и если) оно будетъ опубликовано.
Конечно, у православныхъ людей та же самая проблема, но у насъ она по нѣсколькимъ причинамъ немного легче. У насъ Христіанство менѣе абстрактно, чѣмъ оно имѣетъ тенденцію становиться въ западныхъ церквяхъ. Когда мы молимся, то дѣлаемъ это передъ иконами, которыя пишутъ съ молитвой, которыя освящаются священниками, и мы, немощные люди, можемъ смотрѣть прямо на лики святыхъ и такъ обрѣтать великую силу и молитвенное усердіе. Святые въ особомъ смыслѣ присутствуютъ на иконахъ и, такимъ образомъ, близки намъ, и, дѣйствительно, многіе иконы извѣстны какъ чудотворныя, способны исцѣлять и охранять благодаря особому заступничеству святыхъ (и особенно Пресвятой Богородицы). Я думаю, что ты слышала о "плачущихъ иконахъ" въ Нью-Іоркѣ (сейчасъ ихъ, по меньшей мѣрѣ, три), черезъ нихъ Богоматерь предупреждаетъ насъ о грозящей катастрофѣ и призываетъ къ покаянію. (Одна изъ иконъ была здѣсь, и я молился передъ ней, хотя не видѣлъ никакихъ слезъ. Икона, которая плачетъ обильнѣе другихъ – это простая бумажная репродукція, размокающая отъ обилія слезъ.) Далѣе, большая часть нашей музыки – это не музыка современнаго "сочиненія" (немного такой есть, и она очень плохая), а древніе пѣснопѣнія, сочиненныя святыми, вдохновленными Духомъ Святымъ, и обращены они прямо къ сердцу. Православная Церковь также сохраняетъ старинные христіанскіе таинства и обряды, уже давно забытые Западомъ (такіе, какъ раздача освященнаго хлѣба, помазаніе елеемъ въ субботній вечеръ и наканунѣ праздниковъ, благословеніе яствъ въ разныя времена года, держаніе свѣчей или цвѣтовъ въ различные праздники, прощальныя лобзанія въ началѣ поста, праздничныя лобзанія на Пасху и т.д.), которые несутъ благодать, а иные дѣлаютъ содержаніе праздниковъ болѣе живымъ и реальнымъ. И Православная Церковь оставляетъ неизмѣнными традиціонныя христіанскія обязанности, особенно практику строгаго, временами мучительнаго пощенія, которое сегодня необходимо болѣе чѣмъ всегда, если мы собираемся преодолѣвать власть и искушенія міра.
Но самое важное – это вѣра, наша непосредственная связь съ другимъ міромъ, безъ которой все остальное не будетъ имѣть никакого значенія. Мы сами не въ силахъ ее сохранить, и если бы не было съ нами Господа нашего, то вѣра бы наша изсякла, какъ это случилось въ другихъ церквяхъ. Но Господь нашъ пребываетъ съ нами, а особенно – съ Русской Церковью, которую Онъ избралъ въ наше время ради особеннаго предназначенія. (Русскіе святые XIX вѣка пророчествовали о революціи и о предопредѣленномъ разсѣяніи православныхъ христіанъ по всѣмъ странамъ передъ концомъ. "Русская миссія" имѣетъ духовное значеніе, хотя Совѣты спекулировали на ней въ своихъ собственныхъ сатанинскихъ цѣляхъ и хотя такой православный человѣкъ, какъ Достоевскій, интерпретировалъ ее въ слишкомъ мірскомъ смыслѣ.) Вѣра укрѣпляется въ испытаніяхъ, и Русская Церковь въ изгнаніи живетъ сейчасъ молитвами милліоновъ новомучениковъ, которые для православныхъ вѣрующихъ являются тѣмъ же, кѣмъ были для древней Церкви первые мученики. Въ самомъ дѣлѣ, я думаю, очень похоже на то, что мы, современные православные, живущіе въ "мирное" и "безопасное" время и въ "мирномъ" и "безопасномъ" мѣстѣ, будемъ очень скоро призваны принять мученическую смерть за вѣру нашу. Эта возможность, конечно, реальна предъ лицомъ антихристіанскаго духа "примиренія", который сегодня, кажется, заполнилъ весь міръ и убаюкиваетъ людей сказочкой о мірскомъ и забывчивомъ Небѣ.
Насколько я понимаю, ближайшая къ тебѣ церковь находится въ Рок-Айленде, Иллинойсъ. Ея адресъ: 1110, 10-я стритъ, Варшава (Варшава – видимо, пригородъ Рок-Айленда) – на случай, если ты туда поѣдешь. Есть двѣ церкви въ Чикаго: соборъ съ архіепископомъ по адресу: 2056 Н. Кедзи-бульваръ и часовня на 2141 В. Пирсъ-авеню. Есть разныя другіе православныя церкви (по большей части греческія и русскія) въ большинствѣ крупныхъ городовъ Средняго Запада (нѣсколько изъ нихъ въ Канзасѣ и Сентъ-Луисе), которыя можно найти въ телефонныхъ справочникахъ, но у нихъ нѣтъ большой духовной силы, и онѣ стремительно сближаются съ католической церковью. Въ нашихъ церквяхъ службы всегда бываютъ въ 6 или 7 часовъ (онѣ идутъ примѣрно два часа) въ субботу вечеромъ и въ 10 утромъ въ воскресеньѣ. Однако, по моему представленію, ты рѣдко ѣздишь въ эти города. У насъ въ Санъ-Франциско, къ счастью, есть много прекрасныхъ русскихъ церквей; я думаю, Санъ-Франциско сейчасъ дѣйствительно является главнымъ центромъ русской эмиграціи. Труднѣе, хотя вполнѣ возможно, вести православную жизнь безъ помощи и утѣшенія частыхъ посѣщеній церкви. Напримѣръ, сестра моей бабушки живетъ въ Перу и нѣсколько лѣтъ обходилась безъ церкви, примѣрно только разъ въ годъ получая Святое Причастіе, когда изъ Чили пріѣзжалъ Архіепископъ. Многіе изъ святыхъ пустынниковъ тоже рѣдко бывали въ церкви, и, я думаю, преподобная Марія Египетская только разъ въ жизни причастилась. (Читала ли ты ея житіе? Это замѣчательная святая; если у тебя нѣтъ ея житія, я вышлю.) Но, увы, мы не такъ сильны, и намъ требуется гораздо больше помощи.
Снова перечитывая твое письмо, я вижу такіе слова: "Твоя жизнь сейчасъ заполнена, и у тебя много друзей, гораздо болѣе близкихъ, чѣмъ я. Я не принадлежу къ вашему кругу". Но это не такъ. Дѣйствительно, у меня есть нѣсколько близкихъ друзей, но я имѣю въ виду другое. Духовная дружба (а всѣ другіе виды дружбы, хотя въ нихъ много пріятнаго, заканчиваются смертью) не требуетъ внѣшнихъ проявленій (общія занятія или работа, общій кругъ знакомыхъ, частыя встрѣчи и т.п.), безъ которыхъ мірская дружба просто исчезнетъ. Духовная дружба коренится въ общей Христіанской вѣрѣ, питается молитвой другъ за друга и сердечными откровеніями и всегда вдохновляется общей надеждой на Царствіе Божіе, въ которомъ больше не будетъ разлуки. Богъ, по разумѣнію Своему, раздѣлилъ насъ на землѣ, но я молюсь и надѣюсь, и вѣрю, что мы будемъ вмѣстѣ, когда закончится эта короткая жизнь. Я каждый день вспоминалъ тебя въ своихъ молитвахъ, и даже, когда въ теченіе двухъ лѣтъ не получалъ отъ тебя писемъ и думалъ, что, возможно, они никогда больше не придутъ, ты все же была мнѣ ближе, чѣмъ большинство моихъ друзей, которыхъ я часто вижу. О, если бы мы были настоящими христіанами, то всѣ люди были бы намъ свои, и мы любили бы даже тѣхъ, кто насъ ненавидитъ, но пока все, что мы можемъ сдѣлать, – это любить немногихъ. И ты, конечно, одна изъ моихъ "немногихъ".
Лучше мнѣ на этомъ закончить, такъ какъ я знаю, ты, должно быть, думаешь, что я тебя бросилъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ сегодня днемъ (сейчасъ ночь) печатать это письмо, я уже потерялъ свою работу и долженъ искать другую. Меня какъ-то отрезвляетъ мысль, что со всѣми своими философскими и отвлеченными претензіями я не справился съ работой скромнаго помощника оффиціанта. Скоро буду посылать въ монастырь въ Нью-Іоркѣ за книгами и тому подобными вещами и получу нѣсколько вещей для тебя. Пожалуйста, будь ко мнѣ добрѣе, чѣмъ я былъ къ тебѣ, и быстро мнѣ напиши. И молись за меня, грѣшнаго.
Твой братъ во Христѣ.
P.s. При всякой опасности или трудности молись (кромѣ Богоматери) святителю Николаю, онъ – величайшій изъ святыхъ и скорый заступникъ. Также, ради исцѣленія, молись святому цѣлителю Пантелеимону, мученику IV-го вѣка вселенской Церкви. Я тоже буду молиться ему о тебѣ и о твоемъ мужѣ.
3/16 сентября 1963 г.
Послѣ нѣкоторыхъ размышленій я рѣшилъ, что твоя идея дѣйствительно вполнѣ практичная. Вотъ нѣкоторыя мысли по поводу того, какъ ее реализовать.
Прежде всего, найди въ районѣ Ричмондъ или близъ него, желательно на улицахъ Джіэри, Клементъ или Калифорнія, гаражъ или маленькій магазинъ съ арендной платой не болѣе 30 долларовъ въ мѣсяцъ. (Я смотрѣлъ одно мѣсто на Калифорнія-стритъ; интересное зданіе, но оно обветшало и подлежитъ сносу.) Въ немъ должно быть достаточно большое окно (въ качествѣ витрины), а если такого нѣтъ, то намъ придется его сдѣлать. Затѣмъ надо его обставить нѣсколькими столами, книжными шкафами и т.п.; въ одномъ углу обязательно должна быть икона съ лампадой, на одной стѣнѣ – отецъ Германъ; фотографіи Джорданвилля и т.д. на другихъ стѣнахъ, и у двери – доска объявленій. Въ глубинѣ еще самоваръ или, по крайней мѣрѣ, чайникъ съ кипяткомъ. Затѣмъ нужно запастись книгами, иконами и т.д. изъ Джорданвилля, включая нынѣшніе и прошлые номера "Православной жизни" на русскомъ и англійскомъ языкахъ и текущіе номера "Православной Руси", а также другіе православные матеріалы изъ другихъ мѣстъ, которые можно достать безъ предварительной оплаты или за небольшую цѣну. Объявленіе можно дать черезъ "Русскую Жизнь" или устно, можно объявить также на Богословскомъ курсѣ (въ Свято-Тихоновской) и на доскахъ объявленій въ церквяхъ, а также лично. Сперва мы могли бы работать только нѣсколько дней въ недѣлю – скажемъ, по вечерамъ во вторникъ и четвергъ и въ субботу днемъ съ цѣлью предоставить мѣсто для свободныхъ сборовъ тѣхъ, кто этимъ заинтересуется. Нѣсколько человѣкъ могли бы отвѣчать за то, чтобы открывать и закрывать магазинъ, каждый день разные люди, чтобы раздѣлить обязанности. Вся работа должна быть добровольной и безплатной, всѣ доходы должны идти на расширеніе дѣятельности "Братства" – во-первыхъ, на покупку книгъ для продажи, особенно Отцовъ; во-вторыхъ, чтобы дѣятельность магазина была успѣшной, печатать что-то вродѣ бюллетеня (можетъ быть) и т.д.
Такой книжный магазинъ, въ первую очередь, послужитъ русскимъ въ Сан-Франциско, нѣкоторые изъ которыхъ начинаютъ подъ вліяніемъ владыки Іоанна интересоваться Отцами, но едва ли знаютъ, что есть возможность купить православныя книги. Во-вторыхъ, это будетъ мѣсто, гдѣ могутъ собираться и общаться и американцы, и русскіе, старые и молодые, которые проявятъ къ этому интересъ; въ-третьихъ, это будетъ мѣсто, куда можно будетъ посылать американцевъ, которые мало или вообще ничего не знаютъ о Православіи, и за литературой, и чтобы послушать бесѣды. Если Господь благословитъ наше предпріятіе, пробудится интересъ и будутъ продаваться книги, то это станетъ финансовой базой для всѣхъ дальнѣйшихъ начинаній, которыя можно спланировать, когда возникнетъ въ нихъ необходимость и будутъ условія.
Все, что требуется для начала, это небольшая сумма денегъ (на аренду, мебель, краску и т.д.) и, самое главное, по меньшей мѣрѣ, четыре-пять работниковъ-добровольцевъ. Я уже охваченъ рвеніемъ, хотя, нужно сказать, Джонъ, какъ обычно, настроенъ пессимистически, но это не должно служить помѣхой. Если отецъ діаконъ Николай и его другъ Николай и, возможно, одинъ-два человѣка увлекутся этимъ, то этотъ проектъ можетъ быть легко осуществленъ.
Сообщи мнѣ свое мнѣніе объ этихъ идеяхъ. И молись обо мнѣ, твоемъ грѣшномъ братѣ о Христѣ.
Евгеній.
Четвергъ, 3 октября 1963 г.
Кажется, я припоминаю, какъ ты упоминала о призракахъ и т.п. вещахъ въ одномъ письмѣ нѣсколько лѣтъ назадъ, но не помню, чтобы я написалъ что-то въ отвѣтъ. Думаю, что такое подпадаетъ подъ категорію того, что касается разнаго, связаннаго съ антихристомъ и послѣдними днями: слѣдуетъ о нихъ кое-что знать, чтобы не дать увлечь себя ложными ученіями и "откровеніями", но въ то же время духовно опасно слишкомъ въ нихъ вникать. Какъ бы то ни было, я отчасти самъ ими интересуюсь и собираюсь посвятить имъ одну главу въ своей книгѣ, поскольку считаю, что они сыграютъ важную (отрицательную) роль въ близкомъ будущемъ. Масса книгъ на эту тему, написанныхъ и духовными лицами, и учеными – это, возможно, всего лишь подготовка къ грядущему совращенію многихъ душъ, которыя, не имѣя въ такихъ дѣлахъ ни знанія, ни опыта, могутъ быть легко сбиты съ толку нѣсколькими эффектными "явленіями". Думаю, вполнѣ возможно, что слова Господа нашего: "Возстанутъ лжехристи и лжепророцы, и дадятъ знаменія велія и чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и избранныя" (св. Матѳей 24, 24), такъ же, какъ ложныя чудеса "пророка" антихриста (Апокалипсисъ), который даже "огнь сотворитъ сходити съ небесе", могутъ относиться, помимо всего прочаго, къ очень необычнымъ физическимъ и бѣсовскимъ проявленіямъ, которые матеріально должны будутъ принимать за "чудеса".
Не сомнѣваюсь въ подлинности многихъ явленій, описанныхъ въ книгахъ, подобныхъ той, что ты читала. Описанія ученыхъ, конечно, болѣе достовѣрны, чѣмъ у духовныхъ лицъ, но только въ томъ, что касается специфическихъ деталей наблюдаемыхъ феноменовъ; никогда не довѣряй интерпретаціи этихъ явленій, сдѣланной даже самыми уважаемыми учеными, ибо они обыкновенно не знаютъ ничего и никогда не знаютъ достаточно ни о духовномъ опытѣ, ни о Христіанскомъ ученіи. Что касается умершихъ, православная традиція и въ ученіи, и на практикѣ сохранила многое изъ того, что уже давно утратила католическая церковь. На практикѣ – есть поминовеніе усопшихъ на каждой Литургіи и иныхъ спеціальныхъ на то службахъ. Всѣ присутствующіе, кто пожелаетъ, подаютъ свои собственныя записки (и за живыхъ, и за усопшихъ), и священникъ вслухъ читаетъ всѣ имена, помимо своего помянника. Если присутствуетъ много людей, то это иногда занимаетъ 15-20 минутъ (что католическая церковь навѣрняка бы посчитала "неэффективнымъ" и "пустой тратой времени"!), но это чудный сѵмволъ единства всѣхъ вѣрующихъ, здравствующихъ и усопшихъ, присутствующихъ и не присутствующихъ. Другимъ признакомъ православнаго отношенія къ усопшимъ является дивная радость – сдерживаемая, но все же радостная атмосфера службъ по усопшимъ, съ постояннымъ припѣвомъ "аллилуйя" и съ чувствомъ, что это скорѣе возрожденіе въ новомъ мірѣ, чѣмъ уходъ изъ этого міра. Гробъ съ усопшимъ стоитъ въ церкви въ теченіе всего того дня, когда совершается отпѣваніе; пока онъ тамъ находится, совершаются и другіе службы, святая атмосфера благотворна для усопшаго, и я обнаружилъ, что и на меня самого, когда я посѣщаю такіе службы, это оказываетъ благотворное и успокаивающее вліяніе. Я разсказывалъ своимъ неправославнымъ друзьямъ и родственникамъ объ этомъ обычаѣ, и меня всегда удивляла ихъ одинаковая реакція: "Какъ это угнетающе!" На меня же это оказываетъ противоположное дѣйствіе, а какъ можетъ быть иначе, если мы вѣримъ въ Небо? Это же хорошо, что намъ напоминаютъ о смерти и о будущей жизни. Еще одинъ обычай – родственники усопшаго въ продолженіи всей первой ночи (по одному человѣку по очереди) читаютъ надъ тѣломъ усопшаго Псалтирь.
Конечно, сами эти обряды основаны на ученіи: первое и всеобщее – это, что мертвые воскресаютъ въ иномъ Царствіи; второе, болѣе специфическое, – это, что душа какое-то время остается въ непосредственной близости отъ тѣла и сразу же воспринимаетъ благодать отъ религіозныхъ службъ и религіозной атмосферы. Самое общепринятое объясненіе этому церковному обычаю совершать спеціальныя службы на третій, девятый и сороковой день по смерти – это, что преподобный Макарій Александрійскій получилъ откровеніе отъ Ангела. (Православная Церковь и сегодня сохраняетъ этотъ обрядъ такъ же, какъ и совершеніе панихидъ въ годовщины смерти, именины и т.д.)
"Когда въ третій день бываетъ въ церкви приношеніе, то душа умершаго получаетъ отъ стерегущаго ее Ангела облегченіе въ скорби, каковую чувствуетъ отъ разлученія съ тѣломъ, получаетъ потому, что славословіе и приношеніе въ церкви Божіей за нее совершено, отчего въ ней рождается благая надежда. Ибо въ продолженіе двухъ дней позволяется душѣ, вмѣстѣ съ находящимися при ней Ангелами, ходить по землѣ, гдѣ она хочетъ. Посему душа, любящая тѣло, скитается иногда возлѣ дома, въ которомъ разлучалась съ тѣломъ, иногда возлѣ гроба, въ который положено тѣло; и такимъ образомъ проводитъ два дня, какъ птица, ища гнѣзда себѣ. А добродѣтельная душа ходитъ по тѣмъ мѣстамъ, въ которыхъ имѣла обыкновеніе творить правду.
Въ третій день же Тотъ, Кто воскресъ изъ мертвыхъ, повелѣваетъ, въ подражаніе Его воскресенію, вознестись всякой душѣ христіанской на Небеса для поклоненія Богу всяческихъ". Поэтому въ Церкви и существуетъ обычай творить милостыню и молиться за душу усопшаго на третій день.
Послѣ того какъ душа поклонилась Богу, Онъ повелѣваетъ, чтобы ей показали всеразличныя мѣста пребыванія святыхъ и красоты Рая. И все это душа разсматриваетъ въ теченіе шести дней, восхищаясь и славя Бога, Творца всяческихъ. И когда душа разсмотритъ все это, она преображается и забываетъ всѣ скорби, которыя испытала, пребывая въ тѣлѣ. Но если она отягщена грѣхами, тогда при видѣ наслажденій святыхъ, начинаетъ стенать и корить себя, говоря: "Горе мнѣ! Какъ дурно провела я отпущенное мнѣ въ міру время! Я погрязла въ удовлетвореніи своихъ желаній, провела чуть не всю жизнь въ небреженіи, не повиновалась Господу, какъ слѣдовало бы, чтобы тоже удостоиться такой славы. Горе мнѣ, бѣдной!" Послѣ того, какъ въ теченіе шести дней душа зритъ всѣ радости, дарованныя Всевышнимъ, Ангелы вновь ведутъ ее для поклоненія Господу. Церковь поэтому добро творитъ, что на девятый день совершаетъ поминовеніе.
Богъ, послѣ того, какъ душа поклоняется Ему во второй разъ, повелѣваетъ, чтобы ей показали мученія и ужасы ада, всеразличныя мученія бѣсовскія, которыя заставляютъ души грѣшниковъ, попавшихъ туда, непрестанно стенать и скрежетать зубами. И по всѣмъ тѣмъ мѣстамъ мученій душу водятъ тридцать дней, и она дрожитъ все время отъ страха, какъ бы ей тоже не попасть сюда.
На сороковой день душу вновь ведутъ для поклоненія Господу, и тогда Судья опредѣляетъ, куда, по дѣламъ ея, слѣдуетъ ее помѣстить. Такъ что Церковь добро творитъ, поминая на сороковой день крещеныхъ усопшихъ.
Если, конечно, все это вѣрно, то въ книгѣ, которую ты читала, есть одна основная ошибка: души не остаются на землѣ въ своего рода чистилищѣ на какое-то неопредѣленное время, напротивъ, онѣ остаются здѣсь всего нѣсколько дней. Съ другой стороны, все-таки вѣрно, что усопшіе иногда дѣйствительно связываются съ живыми или съ Неба, или изъ ада, потому что и Небо, и адъ располагаются не въ "космосѣ", а въ нѣкоемъ духовномъ измѣреніи, возможно, и то, и другое прямо передъ нашими глазами, но мы духовно слѣпы и не въ состояніи увидѣть. Матерь Божія и многіе святые часто являлись людямъ, а иногда съ какой-то особенной цѣлью кому-нибудь является родственникъ или другъ. Я отъ православныхъ слышалъ объ одномъ грѣшникѣ въ аду (въ Православіи нѣтъ "чистилища", адъ – это мѣсто и очищенія, и наказанія), который явился своей родственницѣ, умоляя ее молиться за него, и еще объ одномъ (самоубійцѣ), который привидѣлся своей сестрѣ въ аду, въ страшныхъ мукахъ и который просилъ ее перестать за него молиться, поскольку ея молитвы только усиливаютъ его муки, а проклятіе съ него не снимается. Естественно, усопшіе, которые могутъ, молятся о насъ, какъ и мы о нихъ, но, судя по тому, что большинство людей не готовится надлежащимъ образомъ къ смерти, сами усопшіе очень нуждаются въ молитвѣ за себя и, вѣроятно, не могутъ оказать живымъ большой помощи. Тѣ, кто не готовится къ своей кончинѣ, должно быть, испытываютъ сильный шокъ и чувство полной безпомощности, оказавшись въ мірѣ, гдѣ всѣ земные таланты и власть не имѣютъ никакого значенія, а цѣнится только духовная сила.
Причина, почему опасно слишкомъ увлекаться всѣмъ этимъ (такъ же, какъ и ясновидѣніемъ, и экстрасенсорнымъ воспріятіемъ, являющимися духовнымъ даромъ нѣкоторыхъ святыхъ, но часто и духовнымъ зломъ, когда ими пользуются люди недостаточно чистые), въ томъ, что, принадлежа къ сферамъ разума и духа, они особенно подвержены вліянію бѣсовъ, обитающихъ въ этихъ сферахъ. Напримѣръ, аналогичныя явленія спиритизма (а многіе изъ нихъ нельзя объяснить просто обманомъ), возможно, въ первую очередь, подвержены дѣйствію бѣсовъ; настоящіе медіумы, очевидно, дѣйствительно въ какой-то степени одержимы бѣсами, притворяющимися усопшими. Если случается рѣдкій случай дѣйствительнаго контакта съ усопшимъ посредствомъ спиритизма (помнишь, какъ Саулъ вступилъ въ контактъ съ духомъ пророка Самуила при посредствѣ аэндорской волшебницы? – 1 Царствъ 28), бѣсы используютъ этотъ случай въ своихъ собственныхъ цѣляхъ.
Пятница.
Единственное, что я успѣлъ вчера сдѣлать, – это написать эти три страницы, надъ которыми сидѣлъ 12 часовъ. По ночамъ (до 3-4 часовъ утра) я работаю въ ресторанѣ сторожемъ, это трудная работа, но спокойная. Быть помощникомъ оффиціанта легче, но нужно улыбаться людямъ и быть въ достаточной мѣрѣ услужливымъ. Я такъ же, какъ ты, боюсь "дѣлового міра" и едва не впадаю въ отчаяніе, когда возникаетъ проблема найти работу. Ну а когда нахожу работу, то все въ порядкѣ; жаль, конечно, потраченнаго на нее времени, но, по крайней мѣрѣ, это избавляетъ отъ излишней гордости. Думаю, что потерялъ послѣднее мѣсто работы, потому что они чувствовали: та работа была мнѣ не по сердцу, и это дѣйствительно такъ.
Спасибо за твое доброе предложеніе пріѣхать въ случаѣ необходимости къ вамъ. Возможно, и наступитъ такое время. Что касается моей семьи, я видѣлся съ ними на прошлой недѣлѣ, и очевидно, что они все больше безпокоятся обо мнѣ. Они были бы очень рады, если бы я дѣлалъ обыкновенную мірскую карьеру, они возлагали на меня такіе надежды, а сейчасъ я становлюсь "религіознымъ фанатикомъ" – такъ, я полагаю, они должны...
Мой молодой русскій другъ, который живетъ въ Монтереѣ, показывалъ имъ нѣкоторые слайды русскихъ монастырей и церквей въ Сѣверной Америкѣ, и, по ихъ мнѣнію, они "огромные", но старомодные и т.п. Но что ихъ дѣйствительно поразило, особенно моего отца, – это фотографія стараго монаха, который сорокъ лѣтъ провелъ въ своей кельѣ и почти не разговаривалъ съ другими людьми. Онъ, навѣрное, достигъ, духовныхъ высотъ, но для моихъ родителей это былъ просто примѣръ полностью "потраченной впустую жизни". Боюсь, я начинаю отчаиваться, когда говорю о жизни въ молитвѣ и нравственномъ совершенствованіи и о томъ, что истинныя цѣнности принадлежатъ не этому міру, а грядущему, и встрѣчаю полное непониманіе и мнѣніе, что чрезмѣрное увлеченіе религіей – это дѣйствительно "болѣзнь". Ну, гдѣ обрываются отношенія, по крайней мѣрѣ, все еще возможна молитва, но мысль о томъ, что многіе протестантскіе священники, выступающіе проповѣдниками христіанства, въ дѣйствительности ведутъ свою паству по тропѣ развращенія и оставляютъ ихъ совершенно не готовыми къ суровымъ реальностямъ будущей жизни, приводитъ меня въ обиду и печаль. Я встрѣчался со священникомъ моихъ родителей; онъ ни разу не упомянулъ Господа или вѣру, а услышавъ, что я пишу религіозную книгу, постарался смѣнить тему разговора.
Я могъ бы написать еще, но лучше, пока я въ состояніи, выслать это. Спасибо за фотографію; постараюсь взять у отца какую-нибудь изъ послѣднихъ. Я дѣйствительно не знаю, гдѣ находится Варшава, было бы очень-очень хорошо, если бы это былъ твой городъ. Можетъ быть, ты попробуешь выяснить, есть ли тамъ такой адресъ. Посылаю кое-какую литературу, которая, можетъ быть, заинтересуетъ тебя. Я послалъ въ монастырь и за инымъ, включая очень интересное описаніе посмертнаго опыта.
Пожалуйста, поминай меня въ твоихъ молитвахъ.
Во Христѣ,
Евгеній.
Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

По поводу двойного убийства у Храма Архангела Михаила в деревне Дудачкино
К версиям по поводу убийства 19.12.15 Елизаветы Буниной–Николаевой и Дениса Терещука в деревне Дудачкино хотелось бы добавить альтернативное мнение прихожан, включенных в общинную жизнь по поводу роли «секты» в трагических событиях.
Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Многие празднуют 1 января Новый год, а затем 7 января православное Рождество. Эти праздники никак друг c другом не связаны и не может быть новогодний праздник раньше Рождества, потому что мы год празднуем от Рождества Христова, — считает Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) Митрополит Агафангел.
Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей, Митрополит Агафангел считает, что самое главное, что родители могут дать своему ребёнку, — это возможность научиться жить по Закону Божьему.
В одесской школе при православном храме Архангела Михаила дети имеют возможность по субботам познакомиться с христианством, нравственным и Божьим законами.
«В субботу после детской Божественной литургии мы стараемся познакомить детей с церковной жизнью. Они у нас присутствуют на литургии (молятся), потом мы их кормим завтраком, а затем проходят занятия по изучению Закона Божьего и интересному для детей занятию в зависимости от возраста (рукоделию и др.). Мы стараемся, чтоб детям было интересно».
Митрополит Агафангел рассказал, что «многие думают, что можно узнать о церкви через телевизор или через книгу. Но это не так, церковь это – то, что передаётся от человека человеку. Это встреча с людьми, встреча с христианством, не теоретическая (виртуальная), а встреча непосредственная. И вот это для детей очень важно, потому что надо заложить в детях христианство,
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.
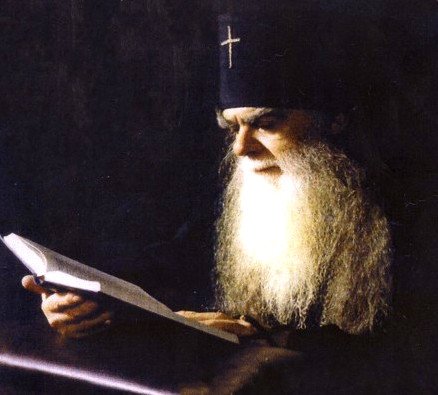 Положеніе православнаго христіанина въ современномъ мірѣ, можно безъ всякаго преувеличенія рѣшительно сказать это, до крайности тяжко. Вся современная жизнь, во всѣхъ ея проявленіяхъ, такъ или иначе, направленапротивъ него. Вѣдь все въ ней, по существу, является сплошнымъ отрицаніемъ истиннаго христіанства. И если еще въ апостольскія времена возлюбленный ученикъ Христовъ св. Іоаннъ Богословъ могъ писать, что «весь міръ лежитъ во злѣ» (1 Іоан. 5, 19), то съ гораздо большимъ правомъ можемъ мы сказать это о нашемъ времени. Быть истиннымъ православнымъ христіаниномъ, готовымъ до смерти соблюсти свою вѣрность Христу-Спасителю, въ наши дни много труднѣе, чѣмъ въ первые вѣка христіанства. Тогда преслѣдовали христіанъ враги неразумные, не вѣдавшіе Христовой вѣры, имѣвшіе о ней представленія превратныя, зачастую нелѣпыя. Да и гоненія эти носили по преимуществу характеръ внѣшнихъ гоненій. Не принося ущерба душѣ, они обрекали на муку и смерть тѣла первыхъ христіанъ. И тогдашніе христіане, хорошо помня завѣтъ Христовъ: «не бойтесь убивающихъ тѣло, душу же не могущихъ убить»(Матѳ. 10, 28) и будучи подкрѣпляемы благодатью Божіею, съ радостью шли на муки и отдавали свою жизнь за Христа. Эти гоненія не только не угашали духа, а наоборотъ — еще болѣе окрыляли и возгрѣвали его, и кровь мученическая, по мѣткому выраженію одного изъ тогдашнихъ апологетовъ, дѣйствительно становилась сѣменемъ христіанства.
Положеніе православнаго христіанина въ современномъ мірѣ, можно безъ всякаго преувеличенія рѣшительно сказать это, до крайности тяжко. Вся современная жизнь, во всѣхъ ея проявленіяхъ, такъ или иначе, направленапротивъ него. Вѣдь все въ ней, по существу, является сплошнымъ отрицаніемъ истиннаго христіанства. И если еще въ апостольскія времена возлюбленный ученикъ Христовъ св. Іоаннъ Богословъ могъ писать, что «весь міръ лежитъ во злѣ» (1 Іоан. 5, 19), то съ гораздо большимъ правомъ можемъ мы сказать это о нашемъ времени. Быть истиннымъ православнымъ христіаниномъ, готовымъ до смерти соблюсти свою вѣрность Христу-Спасителю, въ наши дни много труднѣе, чѣмъ въ первые вѣка христіанства. Тогда преслѣдовали христіанъ враги неразумные, не вѣдавшіе Христовой вѣры, имѣвшіе о ней представленія превратныя, зачастую нелѣпыя. Да и гоненія эти носили по преимуществу характеръ внѣшнихъ гоненій. Не принося ущерба душѣ, они обрекали на муку и смерть тѣла первыхъ христіанъ. И тогдашніе христіане, хорошо помня завѣтъ Христовъ: «не бойтесь убивающихъ тѣло, душу же не могущихъ убить»(Матѳ. 10, 28) и будучи подкрѣпляемы благодатью Божіею, съ радостью шли на муки и отдавали свою жизнь за Христа. Эти гоненія не только не угашали духа, а наоборотъ — еще болѣе окрыляли и возгрѣвали его, и кровь мученическая, по мѣткому выраженію одного изъ тогдашнихъ апологетовъ, дѣйствительно становилась сѣменемъ христіанства.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Гонения на верующих.
 На фото - После архиерейского богослужения в одном из иосифлянских храмов Петроградской епархии
На фото - После архиерейского богослужения в одном из иосифлянских храмов Петроградской епархии
20-е годы
Маргарита Чеботарева: Обновленцы
… в 1922 году стали у нас обновленцы по новому календарю служить. Как раз на Успение заставили заговляться по-новому и по-новому разговляться. А мама пошла к священнику: «Батюшка, что же нам делать?» — «А ваше дело: колокол зазвонил в церковь, вы и идите». — А был у нас в селе один дедушка Фома, раскулаченный, такой богобоязненный, и еще к нему пристали жители и девушки-чернички деревенские. Они крепко стояли и заставили их отслужить по старому стилю, и по-старому заговлялись, и по-старому разговлялись. Потом были у нас епископ Корнилий и Захария, «обновленцы», это до 1925 года, а потом владыка Петр (Зверев) приехал. А я пошла к Захарию книжки просить, сама ни благословения не беру, ничего, а книжки прошу. Ну, он мне ничего не дал. Мы любили книжки набожные читать, летом возьмем книжки — и в сад. Вот мы с Агнией взяли в церкви «Церковные ведомости» и прочли о безубойном питании человека, то-есть, чтобы никого не убивать, и вот мы сами перестали мясо есть. Ни у кого благословения не просили, ничего, просто сами бросили, и все.
В 1922 году собор заняли «обновленцы», а митрополит Владимир скончался в декабре того же года. А в 1925 году из Москвы прислали архиепископа Петра (Зверева). Мы на клиросе пели. Помню, мы пели многолетие Петру (Крутицкому) и Петру (Звереву). Владыка заставлял священников-«обновленцев» публично каяться перед амвоном и объяснять, что такое обновленчество. Вот он стоит на амвоне, а они перед ним, вот он говорит: «Скажи, чадо, что означает обновленческая церковь?» Они начинают объяснять. Объяснит несколько пунктов, а остальное — на духу каяться. А духовником им был поставлен отец Иоанн Ардаллионович Андриевский, который не принял обновленчества. Наша церковь в Гремячем недолго была обновленческой: новый стиль был только от Успения до Филипповского, да и то их на Успение заставили два раза служить, и по-новому, и по-старому. Может, у них внутри что и было, а только стиль был старый.
У нас два священника было: отец Павел, старенький, и отец Михаил, помоложе. Они и обновленчество приняли, и сергианство, а потом их все равно арестовали и дома отобрали у них.
В двадцать седьмом году разгромили церковь, растащили иконы и церковную утварь. А потом началось раскулачивание. К нам пришла бригада из двенадцати человек во главе с бригадиром, она ходили по тем домам, которые наметила. Отбирали все, что считали нужным: иконы, одежду, посуду. У нас забрали две коровы, двух лошадей, двенадцать свиней, пятнадцать овец, кур, одежду. Коровы приходили, лошади, и нам приходилось их отгонять, после этого дрова уже таскали на себе, боялись неповиновения, потому что могли за это арестовать. Когда отбирали хозяйство, — это было как светопреставление, — крик, рев. А отец сказал: «Не плачьте и не жалейте. Так Господь дал!» А нас всех выгнали из своего дома, а дом был большой хороший пятистенок, он и до сих пор стоит, мы туда ездили на кладбище, на котором похоронен отец.
В 1929 году положение в Церкви было тревожным и неопределенным. Митрополита Иосифа, первым объявившего о неприятии Декларации и возглавившего Церковь «отделившихся», выслали в Устюжну, но других решительных мер со стороны гражданских властей пока не последовало. Личные контакты в среде «непоминающих» были затруднены, хотя на квартиру о. Феодора (Андреева), часто не зная о его смерти, продолжали писать и приезжать за разъяснением недоумений. Наталия Николаевна дважды ездила в Устюжну с поручениями к митрополиту Иосифу, наивно считая эти поездки конспиративными. Меня также дважды посылали в Старую Руссу и Великий Новгород. Квартира о. Феодора в «органах» называлась «главным штабом» и находилась под соответствующей опекой.
Мне запомнились двое длиннобородых и длинноволосых сибирских батюшек в громадных шубах, приехавших к о. Феодору, когда тот лежал уже смертельно больной. Его жена не отходила от постели больного, и мне приходилось этих и других вопрошавших знакомить с письмами и обращениями епископов, выступивших против Декларации. И таких недоумевающих и вопрошавших было много. Не все могли приехать, а почта служила ненадежной связью. Но все же какие-то контакты осуществлялись.
Я помню, меня дважды посылали в Старую Руссу к епископу Иоанникию. Никаких письменных материалов мне не давали из предосторожности. Обо всем надо было сообщать только устно. Казалось, что мой вид не может вызвать подозрений: 24 года, стриженая. Когда я пришла на квартиру к епископу, и келейник с лукавым видом спросил, какое у меня может быть дело к владыке, я чуть было не бухнула ему, что хочу венчаться в посту: это, вероятно, соответствовало бы моему виду, но, к счастью, сдержалась. Сам владыка очень внимательно меня выслушал, потом встал, поклонился мне и сказал: «Я поступлю так, как вы скажете». Я чуть не зарыдала: «Владыка, я только посыльный, как посмею вам указать». Потом направили меня к нему второй раз. Он не принял Декларацию.
Дважды посылали меня в Великий Новгород, где было несколько епископов, не помню их имен. И снова нельзя везти никаких писем, а надо все передавать только устно.
Осенью 1928 года к о. Феодору приезжал из Киева о. Анатолий Жураковский для обсуждения вопросов, связанных с Декларацией. Случилось так, что в это время к о. Феодору пришли с обыском, и он был арестован. Его гость во время обыска стоял за дверью проходной комнаты, где висел телефон, который, к счастью, ни разу не зазвонил, и о. Анатолия не заметили.
Следователь Макаров убеждал о. Феодора принять Декларацию, обещая за это обеспечить Церкви правовое положение. «Оставьте нам наше святое бесправие», — отвечал на это о. Феодор.
Несмотря на неуступчивость, о. Феодора в тот раз вскоре отпустили, вероятно, в связи с плохим состоянием здоровья.
Церковь была в трех километрах от нас, в чувашской деревне Тымаклы. В церковь все мы ходили, пели на хорах, голоса у многих были хорошие. Церковь то закрывали, то открывали, и тогда служили там. Потом уж закрыли совсем, а священников забрали. Молились в доме у нас много, утром тебя за стол не посадят, если ты не помолишься. И вечером также. Отец мой неграмотный был, мать четыре класса кончила, и книг богослужебных у нас много было, потом все отобрали. У нас как молились: отец помолится, мать псалтырь немного почитает, а мне говорит: «Давай «Богородицу» почитай». В воскресенье мать соберет меня: «Беги в церковь». Молилась — не молилась, а около церкви побегаю. Вот такая я была молельщица.
А у нас, действительно, часто гости бывали, приходили, окна закрывали, читали книги и молились. Федор Михайлович Галкин, глубоко верующий, приходил из деревни Удельное-Енорускино, какой-то молодой человек с книгами появлялся, из села Черемухи приезжал дядя Ваня, божественный человек, связанный с Афоном: он отправлял туда посылки, а оттуда ему присылали книги.
Когда все собирались к нам и читали, отец вешал замок на дверь, сам садился во дворе возле окошечка и брал папиросу в руки. Они сидели, несколько человек, разговаривали и читали, а он сидел под окном, курил и отвлекал внимание: «Вы к Маше? А ее нет дома. Я сам ее сижу и жду».
Мать ведь портниха была, к ней приходили шить. Меня обычно из дома выгоняли, как шпиона молодого, но, если я вó время пряталась, то слышала, о чем они говорили.
С двадцать девятого по тридцать третий год, когда колхоз уже был, к нам тоже приходили, но очень скрытно. Уже боялись. Отец выходил и проверял — закрыто ли все. Одеялами окна завешивали, сидели и разговаривали.
30-е годы

Священник Михаил, что помоложе, вышел в церкви и говорит: «Вот, у нас теперь митрополит Сергий, такой хороший, умница такой, а Алексей-то Буй, епископ, он молодой такой, неопытный» (они уже знали, что он отказался от декларации). А Сергий, значит, такой хороший. А народ-то что понимает? Ничего не понимает. А те, которые обновленчества не хотели, они и это не приняли, несколько человек, ревностные такие за старое. Дедушка Фома еще живой был, он намдекларацию принес, я ее в руках держала. И вот, помню первые слова: «Радость ваша — радость наша». Выстрел из-за угла на вас мы принимаем, как на нас. Я так всех слов не упомню, но помню слово «лояльное», а мы дедушку спрашиваем «Что это такое?» А он говорит: «Это значит рука об руку с властью».
Этот дедушка Фома и еще один был, Стефан, они набожные были, все Библию читали, и они очень старались нас от сергианской церкви отвести. Мама-то нас в церковь ведет, не понимает… Мама наша говорила: «Вы мне хоть десять Евангелий разложите, а я одно знаю: мои родители в эту церковь ходили, и я буду ходить». Не понимала. А люди наши деревенские видят, что мы в церковь идем, так и они за нами идут, а дедушка Фома старался нас отводить. Стали мы к дедушке ходить, он в городе жил у верующих людей. Он меня и привел к матушке болящей, Иегудииле, из Воронежского Покровского девичьего монастыря, лежащей прикованной к одру двадцать лет.
Сначала он привел к матушке Марионилле, она в то время только что из тюрьмы вышла, ей запретили принимать людей, тогда он повел к Иегудииле. Я, когда уходила из родного дома, волновалась, конечно, колебалась, а потом решила, что Господь важнее родительского крова. Пришла я первый раз к матушкам, а батюшка, иеромонах Иероним, их спросил — сама я пришла или они меня позвали; они говорят — сама; тогда он велел принять, говорит — значит, Бог привел. Отец Иероним меня облек в подрясник и благословил четками в 1933 году.
В то время провокации были, говорили: «Митрофановских мощей нету, там вата набита», — такое время. Комиссия приезжала, вскрывала склеп, ктитор был, присутствовал. А ктитор увидал матушкину послушницу и говорит ей: «Действительно, ваш Митрофан Воронежский — святой, его богоборцы вынули из гробницы, поставили к стенке, дали ему дикирий и трикирий, и он действительно держал». А постригал матушку в мантию владыка Петр (Зверев), ему голос был: постричь Марию, и он постриг. Сколько лет потом она сидела, и по ссылкам скиталась!
Владыку Петра тоже сторожили рабочие, не допускали его арестовать, и до дому провожали, и дом охраняли, так его любила паства и рабочие, — тогда ведь все мужчины были верующие, — а потом подошло все-таки, и его арестовали. Тогда многие епископы были под домашним арестом: архиепископ Прокопий, епископы Дамаскин, Митрофан, Иоасаф, Серафим, Парфений. В 1936 году отец Иоанн Андриевский приезжал к последнему епископу Иоасафу, он проживал под домашним арестом в городе Камышине, и он ему тогда вручил церковные ключи управления.
В 1933 году еще кое-где были наши приходы, не «сергианские»: иерей Пантелеимон служил на станции Колодезь, он стойкий был, он еще псаломщиком обновленчества не принял и «сергианства» он не принял. Отец Емельян в Малышеве служил, а отец Иоанн Скляров в Ульяновке служил, а отец Иероним в селе Ивановка, и вот в одну ночь в 1935 году арестовали всех священников. А пятый с ними был один старичок, его на вольную ссылку. А предала их одна женщина, монахиня считалась, она с нами становилась петь, и говорили про нее, что она предает, мы ее так боялись, тряслись. Елена ее звали. Она говорила: «Я всех в Царствие Божие гоню». И ей, видимо, платили за это. Девять месяцев они просидели, и был суд закрытый, три дня длился.
Матушку Триену тоже в эту ночь забрали. Матушка Триена в миру была Татьяна Петровна Кумская, она монахиня Покровского монастыря. Вот пришли ночью, все перетрясли, копались, ее забрали, а я с болящей матушкой осталась. Болящую не тронули и меня не тронули. А нас предала монахиня из Покровского монастыря, она матушку Триену знала, ведь из одного монастыря, а эта монахиня сидела в тюрьме, и ее там заставили предавать. Вот она все к нам ходила: дайте книжечку почитать, — такой предлог. А у нас щель была в двери, так она подглядывала.
У нас ведь священники бывали, отец Иоанн служил, один раз три священника служили, потом, когда иеромонах Иероним приходил, двух постригали в инокини, а меня тогда послушницей одели, и все это было известно там. Принесли к нам как-то ребенка, добавить молитву к крещению, отец Пантелеимон делал; другой раз больную нужно было причастить, и монашенки тоже попросились причаститься, это тоже было известно. Стали они матушке Триене говорить: «У вас крестили». А она же из монастыря, привыкла все по правде, как дитя: «Нет, — говорит, — мы не крестили, мы только добавление сделали», — вот так сказала.
Вот, я матушке передачу отнесла и Псалтырчик передала маленький, а прихожу домой — мне повестка идти в тюрьму. Я трясусь, думаю, это из-за Псалтыри, а прихожу — другое говорят. Прямо начали сразу: «Вот, тебя постригали?» — «Нет, — говорю — меня не постригали». А это было в этом сером доме, по пропуску проходили, на 4 или 5 этаже.
Стали допрашивать: «Когда выехала из дома? Где остановилась жить? Священники у вас бывали?» — А я-то отказываюсь, потому что священников за это карали, что они по домам ходили причащать без разрешения. Им надо придраться, за что их судить.
А я говорю: «Нет, не было» — «А как больную причащали?» Я говорю: «Не знаю». — «А, ты что, хочешь, чтобы больную привели сюда?» Я тогда говорю: «Может, я на работе была, я ведь работаю, а только при мне не было». И следователь так и написал: «Священник при ней не бывал». И еще они мне говорили: «Ты молодая, там на суде столько будет народу, тебе стыдно будет. Мы тебя из ямы тащим, а ты сама в яму лезешь». Все увещевали.
Теперь второй следователь пришел. Тот начал крутить насчет пострига и насчет отца Иеронима: «Скажи, кого постригали?» А я отказываюсь. И, правда, меня не постригали, а только четки дали и платье стального света. А этих двух постригли, Агнию и Ермионию, близких наших. Следователь говорит: «Ну, ты расскажешь?» — «Да что я расскажу? Меня не постригали». Ну, они тащат из подвала отца Иеронима: «Ну, будешь говорить?» А я при нем говорю: «Буду говорить, что знаю, а что не знаю, чего не было, того не буду говорить». Уведут его, а я опять отказываюсь. Они опять его ведут. Наконец, на третий раз, он говорит: «Мань, да признавайся, я уже уморился ходить по порожкам». А они с матушкой Трифеной уже во всем признались по простоте, а к тому же на допросах терзают, так они уж сами признались.
Я говорю: «Меня не постригали, а платье-то мне подарили стального цвета, так потому, что я за ними ухаживала». А он возьми и скажи: «Да значение-то одно». Хоть они все признали, но тех, постриженных, они не назвали, и их не вызвали, только меня. А меня долго трясли, и паспорта не отдавали, все требовали, чтобы я признавалась. А какой лукавый этот второй следователь — сам написал и заставляет меня подписать: мол, я, гражданка такая-то, выехала двадцати лет из села Гремячева, остановилась у ныне арестованной гражданки Кумской. А ведь за наше время жизни вместе она мне много рассказывала про монастыри, про монастырскую жизнь, что опять будут монастыри и что это будет скоро.
А следователь на нее обвинение сочинял — дескать, известно, что с монастырями покончено, а она, мол, проповедует, что они опять будут скоро, и молодой это внушала.
И еще: кто жил в монастыре, хорошо слушался их назидания к монашеству. А я на эти слова говорю: «А я что, неверующая разве выехала? Я сама была верующая. ничего она мне не говорила, я сама была верующая». Он мне: «Ах, ты такая-сякая, мы тебя сошлем!» А я говорю: «А я свет посмотрю! Я нигде не была, так я свет посмотрю». — «А мы тебя посадим!» А у меня с собой был хлебушка кусочек. Я говорю: «Вот, у меня хлебушка кусочек, я сегодня поем, а завтра вы мне дадите». И никак не соглашалась. Он меня гонял-гонял, а я его никак не боялась.
Девять месяцев они просидели. А потом над ними суд был, где Митрофаньевский монастырь, как раз перед Пасхой. Я три дня ходила, три дня был суд. И вот я была довольна — они меня допросили и сказали: допрошенные свидетели могут присутствовать здесь. И я осталась и все слышала, что они говорили.
Вот слышу, один священник «сергианский» так стал отвечать: «Я служил не по убеждению, а потому что это моя профессия», — и его сразу освободили.
А отец Пантелеимон, он такой ревностный священник был, он всех обличал: кто невенчанный, кто без креста, строго следил, чтобы все по закону, как нужно. И всем священникам дали по восемь лет, а ему — десять, и так он и не вернулся, и отец Иероним, который меня одевал в послушание, тоже не вернулся, и отец Емельян Малышевский. И пропали они где-то без вести.
В 1937 году я приняла иночество от иеромонаха Антония из Толшевского монастыря. Он тайно служил по домам. Он многих постригал в монашество. Он и матушку Мариониллу постриг в схиму. Отец Антоний до войны часто у нас бывал. Один раз кто-то заказал сорокоуст по усопшему, так он у нас в доме целый месяц ежедневно служил. Мы с матушкой Иегудиилой сначала снимали комнатку, а потом нам пожертвовали сруб, и мы сами построили домик, и он там служил. А когда война к нам пришла, в 1942 году он еще с тремя монахами в Углянке выкопал землянку в сарае, и там устроили церковь, и престол там был, — тайный монастырь.
Ходила, молилась я и не замечала сначала давления власти. Но власть за нами следила, мы были для нее враги. И, конечно, владыка Андрей был для нее враг, «черным князем» они его называли. Когда его арестовали, сколько клеветы на него было… А он о себе говорил: «Я только был в пеленках князь и больше я князем не был». Он с юности пошел по духовной линии, какой уж здесь князь, он все испытал в жизни… Только год прослужил у нас и епископ Вениамин, в 1929 году его арестовали. В то время сроки давали небольшие — 3 года, как правило. И мы опять остались одни. В 1930 году и меня арестовали тоже. Пришли ночью, сделали обыск и повели меня пешком через город. Темно, двое конвоиров ведут посередине улицы, и неизвестно куда. А я, знаете, ведь совсем молодая тогда была. Но страха не было, я чувствовала, что Господь рядом…
Довели до тюрьмы, я перекрестилась и переступила порог. Камера была переполнена. На нарах лежали люди, и под нарами, и на полу. Не знаю, куда стать. Вдруг, слышу, кто-то зовет меня: «Рипсимия!» Я с трудом пробралась туда. Это была знакомая верующая. Устроилась возле нее на полу. Пол был грязный, ночью все время ходили, наступали на меня. Было так душно, что у меня там вскоре начались сердечные приступы. Дышать нечем, подойду к двери, у глазка подышу немного. Лето, жара. Выводили на прогулку на несколько минут. Рядом с камерой стоял смертный ящик. Если кто умирал, складывали туда, пока не наполнится.
Много рядом людей страдало. И так мне было жалко их, так хотелось помочь им всем. Готова была все их сроки себе взять, только бы их отпустили! Три месяца была под следствием.
Говорил мне следователь: «Напрасно вы губите свою молодость, зачем вы слушаете так своих священников?» А я всегда знала твердо: раз мои отцы по этой тропиночке пошли, значит, и я за ними должна идти.
Дали мне ссылку — город Самарканд, 3 года. На пути в Самарканд в Самарском изоляторе была — страшный изолятор был… Такая, знаете, тюрьма старинная. На десять минут выпускают подышать воздухом и снова камеру запирают. В общем, испытала я тогда эту тюрьму, до конца узнала, что такое тюрьма.
Через шесть месяцев попала в Ташкент. В ташкентской тюрьме было лучше. Там двери открывали, мы на воздухе сидели. И ручеек рядом протекал, нам свободней было. Из Ташкента взяли тех, которые были назначены в Самарканд, меня и еще одного мужчину. Вместе с нами в Каттакурган везли целый вагон бандитов. И когда ехали через Самарканд, нас никто не встретил, чтобы нас принять, и нас дальше в Каттакурган повезли. Это далеко, Каттакурган. И такой, знаете, там был песок, как снег, до колена почти проваливалась нога. Этих бандюшек всех в тюрьму посадили, мужчину, моего попутчика, туда же поместили. А женщина только я была одна, а там женских камер не было. Ну и что, куда меня деть-то?
И вот там, в тюрьме, была такая временная лачужка. Там сидела одна женщина, анашу она продавала, за это ее и посадили. Меня туда и поместили. Принесут грамм четыреста-пятьсот хлеба и немного воды — и все, я ведь не числилась в тюрьме, я для них была чужая. И еще такая же была камерка, мужчины там сидели, узбеки, «Узбекистан» называлась. Они этой женщине давали еду. Им жены принесут передачу, они ей отделят, а она мне: «Давай садись. Пока я жива, так ничего, не умрешь». Месяца два, наверное, я пробыла там. Надо было обратно вернуться в Самарканд, но у меня денег своих не было. Тут мужчина один как раз ехал, тот, который был в Самарканд назначен, и он за меня заплатил. И нас двоих отвезли в Самарканд. Там освободили из-под ареста. Выпустили и, куда хочешь, иди. Город незнакомый, денег ни копейки нет. И не знаю, куда идти. И вот там к одной женщине старушечка ходила. И эта женщина мне говорит: «Ну, не печалься. Я вам дам адрес этой старушечки, Марьи Ивановны, и вы пойдете к ней». И что же, дала она мне адрес, и мы пошли к этой старушечке. С этим дядечкой пошли, ему тоже негде было остановиться.
В старом городе она жила. Там такие, знаете, внутри были домики маленькие, а вокруг глиняные заборы выше роста человека с маленькой калиточкой. Пришли мы к этой старушечке. Она с мальчиком жила. Мы ей рассказали, — так и так, — и она: «Ну, что же, что же, пожалуйста». Нас приняла так радушно. У ней было две комнатки. Она комнатку одну этому Александру Ивановичу отдала, а я с ней осталась. Одела меня, а мы, что ж, из тюрьмы были, с этапа тем более, грязные. Через два дня Александр Иванович устроился на работу, — мастер какой-то он был, — и комнатку ему дали.
А я на работу устроиться не могу, не принимают меня на швейной фабрике, потому что я за агитацию сослана. У меня политическая статья была — 58-10 и 58-11. 10-я значит — агитация против власти, а если уж 10-11 — это групповая агитация.
Тогда карточная система была, нужно было устроиться на работу, чтобы получить карточки, и я уже в уныние начала впадать — не берут меня на работу. Знаете, мне двадцать шесть лет было, и я одна в чужом городе оказалась. Трудно было мне тогда еще. Но я думала: «Господь не оставит меня в этом положении, это мне только испытание». И не оставил Господь — приняли на фабрику все-таки. Приняли, а все равно, знаете, следили все время. Как только выйду подышать в перерыв, а жара такая, каменные стены раскаленные, и я просто задыхалась, совершенно задыхалась. У меня всегда здоровье слабое было, потом стали признавать расширение сердца. Я ни к кому не подхожу, а около меня тот, другой, третий — следят. Одна рабочая мне потом сказала: «Знаешь, о чем меня спрашивали? Вокруг нее всегда народ. О чем она говорит?»
Так и работала. Если какой непорядок на работе — все относили на мой счет. Раз в месяц ходила в НКВД отмечаться, как ссыльная. Вот прихожу, а меня вызывают во внутреннюю комнату. Там следователь мне и говорит: «Вы будете нам доносить, что на работе у Вас делается». Я отказалась, конечно. Он встал, говорит: «Пошли». Повел меня вниз, в подвал, где камеры с людьми. Открыл ключом дверь в камеру, внутри пусто было. Сказал: «Иди домой и подумай». Ну, что же, я целый месяц переживала, все собиралась опять в тюрьму. И хозяйке уже сказала, и домой написала. Но Господь сохранил, тогда, видно, не время было мне попасть в тюрьму. Когда снова пришла на отметку, больше ничего не предлагали. Так прошло три года…

Когда пришла советская власть, и началась коллективизация, родители не вступили в колхоз, который назывался «Безбожник», и тогда огород нам обрезали по самое крыльцо. Когда родителей раскулачили, мне было около пяти лет — мы с детства были гонимы. Отца в тюрьму посадили, а дом, скотина и все добро досталось колхозу. Потом нас с мамой вывели из дома, разрешив взять смену белья и кое-какие подстилки, так как мама была беременной, в ссылке она и родит сестренку. Нас посадили на подводу и повезли за Волгу, где собирали раскулаченных и за тридцать километров доставили в Царицын. Там на станции высылаемых кулаков посадили в телячьи вагоны, на целый эшелон набрали, и повезли нас на ссылку в Казахстан. Мать моя нисколько не расстраивалась и не плакала, ничего не жалела, что отобрали, ей родители говорили, что все пойдет ради Христа. Они ведь читали пророческие книги, Библию и знали , что придет такое время, выгонят из домов и отберут все. Но Господь укрепит и в будущей жизни воздастся сторицей. И мама была тверда в вере до последнего дня. Всю жизнь терпела и благодарила Господа за Его великую милость. И Господь нам давал во всем изобилие. Никогда мы не роптали на судьбу, все переносили с радостью, день прошел и слава Богу. Всегда молились и ни на кого не обижались. Сам Господь терпел за наши грехи, а мы за свои должны пострадать…
Отец мой не хотел идти в колхоз, тогда его назначили уполномоченным в комиссию по раскулачиванию, но он сказал: «Что хотите, делайте, я на это не пойду». Тогда его арестовали и посадили, а когда выпустили, опять назначили в комиссию. Он отказался, и его опять посадил, а когда выпустили, он вернулся домой, но был совсем больной и умер в 1932 году. Семья страшно бедствовала, и помогали выживать родные из города, привозили караваи — прямо с колесо. Летом травы приносили, щавеля, еще какой травы — суп варили. Лебеду сушили и толкли семечко. Оно, как манка. Мама жарила в печке, в ступке толкла и кашу варила. И как вкусно! Маму все время таскали в сельсовет, требовали, чтоб она вступила в колхоз. А она отказывалась. Ее опять вызывали и подолгу держали, говорили, что дурной пример подает, что из-за нее многие не вступают. Как-то она вернулась, и печь не успела растопить. А мы, дети, замерзли, голодные сидим, плачем. А ее опять вызывают — из области приехал кто-то и стал спрашивать ее:
— Почему в колхоз не вступаете?
— Антихриста боюсь.
— А какой антихрист, с хвостом, с рогами?
— Вот как Вы говорите, такой он и есть.
— Знаешь, моя хорошая, ты пожалей своих детей. Если ты не пойдешь в колхоз, мы тебя посадим в тюрьму или вот в прорубь опустим, ледяной столб из тебя сделаем.
— Что хотите, делайте, но в колхоз я не пойду, как хотите.
Потом он говорит: «Один исход: отправляйся из этой деревни. Глядя на тебя, никто в колхоз не идет». И действительно на собрание соберутся, а все смотрят на маму, как она. Председатель говорит: «Поднимете руки, кто против советской власти?» А мама ему: «Почему вы такой вопрос задаете, речь ведь не об этом идет». Председатель: «Чего вы боитесь идти в колхоз? Мы будем от каждого по возможности, а брать будем по потребности». Вот и давали по потребности — палочку! Как малых детей обдуривали. Они: «Мы будем у руля правления!» А мама спрашивает: «А кто землю будет обрабатывать, если все будут у руля правления?» Еще твердили: «Все будет общее! Нам, что надо будет, будем брать». Вот и «брали», — работаешь, работаешь, а тебе палочку поставят! Картошку с огорода — вот столько-то им отдай, с овечки шерсти — отдай, с курочки яичек — отдай, с коровушки молока и масла — отдай. Это что, по возможности? Колхозники стали песни складывать: «Когда был царь Николаша, на столе была каша, а как встал Ленин, на столе появился сопливый мерин».
Лошади умирали, за ними ведь плохо ухаживали. Колхозники голодные, за мясом прямо в драку. Сколько скота умерло, когда скотину отбирали в колхоз. Пришли к нам во двор. Ворота только открыли, корова заревела, лошадь закричала, овечки заблеяли, — и слезы у них. Мы вышли, плачем, а они все не идут со двора. Их бьют, а мама говорит: «Вы чего их бьете? Они что, виноваты?» Мы подойдем к коровке, гладим, а она нас лижет, и слезы у нее. И у лошадки слезы крупные такие, — всё понимали. А угнали их туда, а там ни корма, ничего не было, — они и умерли с голода. А мясо умерших драли, и коров, и лошадей. Принесут домой, да едят, даже кожу их сдирали — опаливали ее, варили и ели…
Отобрали у нас все, да еще издевались… Председатель специально посылал таких людей к тем, кто не вступал в колхоз. Мама блины печет, мы на улице играем с сестренкой, а как увидим, что эти по домам идут проверять, мы сразу к маме: «Мама, мама, власть идет!» Она мигом квашню в огороде в крапиву поставит, блины спрячет. Они ведь поесть не давали, если найдут, все с навозом перемешают. Так к одним пришли, все тесто прямо на дорогу вывалили и с землей перемешали. У нас даже то, что приносили нам из города, все равно отнимали. Как-то пришли, а мы, детишки, спали на дорожках. Это все, что у нас осталось, на них солому настелили, и на этих дорожках мы спали. Так они нас с этих дорожек как подкинут, извините за выражение, «как г… с лопаты», — так озорничали… Племянница Тайка совсем маленькая была, как заорала от испуга и долго орала, не переставая! Мы думали, она умом тронулась, и с тех пор она такая нервная на всю жизнь и осталась.
Нервотрепка постоянная. Папу посадили, маму по правлениям гоняли, мы плакали, просили Бога, чтобы Он нам ее сохранил.
Папаша сказал, что в колхоз не пойдет, пусть убивают. Все у нас отобрали, хлеб и юбку какую отберут и соседке за рубль продадут. Мы испечем хлеб, соседи придут и кричат, что хлеб купят, а хлеб этот есть-то не могут — там зерна почти не было. Жизнь была очень трудная, тогда все говорили, что антихрист уже пришел, какие-то сны рассказывали. Но большинство народа оставалось в деревне, единицы уезжали в город, хотя там, может, и легче было.
Тогда верующие собирались и много молились, беседы тоже были, но реже. Собирались ночью по разным домам, чаще у двоюродного брата Федора — у него большая изба была. Родителей его забрали, и мы к ним ходили молиться.
Брат мой Михаил, двадцати шести лет, молодой, красивый, проповедником был, его в тридцать седьмом году забрали. Книги прятали на кухне, была сделана там лазейка в маленький погребок, там и Василий прятался. Никто не отступался, все держались, все ждали царствия Божьего на земле… В деревне Порой, за двенадцать километров от Куймани, была у нас знакомая молитвеница, Надежда Павловна. Мужа у нее, Ивана Степановича, раньше забрали, хозяйство разорили, даже крышу дома снесли, а детей у нее четверо было. Мы с Мавриным Иваном для нее ходили за дровами, одежду из простыни сошьем, чтоб на снегу можно спрятаться — нам ведь не давали собирать дрова в лесу. По целине ползем, столбышки от подсолнуха рвем и собираем в вязанку — ведь если увидят, отберут и изобьют. Однажды с Иваном пошли за дровами, а тут председатель колхоза: «Зачем идете». И давай бить нас по головам «за пропаганду».
Однажды пришли к нам из актива и говорят: «Вы можете получать пособие на детей, но чтобы дети ходили в школу». Мать сказала: «Детей в школу не пущу, потому что там учат против Бога. А мы за Бога, и за пособие души детей своих я продавать не буду». Почти каждую ночь мать забирали в сельсовет, и после этих бесед мать приходила избитая и окровавленная. Мы сидели, ждали ее и боялись, то ли живая придет, то ли вообще не придет. Тогда многих убивали за веру на допросах… Несмотря на запрет властей, огород мы все-таки посадили, но когда пришло время собирать урожай, пришли колхозники, собрали весь урожай с нашего огорода и увезли. Так как в нашем доме ничего не было из еды, то мы однажды пошли собирать на поле колоски, ибо питались только колосками, которые собирали с большим риском. Мать нам сказала: «Ну ладно, дети, идите, а я пока сварю вам кутью, придете и покушаете». <…>
Примерно через неделю получила письмо из дома, в нем сообщалось, что мать арестовали – надели ей наручники, посадили в машину «черный ворон» и увезли. И еще сказали, что ее расстреляли. После этого письма я рыдала навзрыд, соседка слышала, как я плакала. Пришла хозяйка с работы и соседка ей рассказала. Хозяйка меня спросила: «Чего ты сегодня так сильно плакала?» я ей ответила: «Я не плакала, почему это я должна плакать. Плакала Муза (их дочка), она капризничала, не хотела спать ложиться». Сколько она меня не допытывала, но я упорно ей ничего не сказала, потому что перед этим я услышала по радио сообщение, что Бухарина, Рыкова и Ягоду расстреляли и их семьи, поэтому я боялась, что и меня возьмут. На другой день хозяйка пошла на работу и позвонила в село и ей передали, что мать моя против советской власти, поэтому ее арестовали, увезли и расстреляли. Хозяйка, бросив работу, прибежала домой, сняла с меня вещи (оставив водной рубашке нижней) и сказала: «Если бы я знала, что ты от таких родителей, то я тебя не пустила бы и за сто километров». Так я пошла без чулок, без платка; сверху было накинуто легкое пальто. Была уже зима, сильная вьюга на улице, шла по городу и плакала. Придя в свое село домой, увидела, что маленький брат сидел один в холодной хате, а старшего посадили за веру в Бога. Я пошла набрала бурьяна, натопила печку. Из остатков муки сварила похлебку и мы с братом поели, обогрелись…
Наталия Гончарова: Пионеры
В 1929 году началась коллективизация, и родителей принуждали записаться в колхоз. В колхоз вступать «грех», так как наша семья относилась к истинно-православным христианам. Отец категорически отказался. У нас забрали весь скот, тряпки, посуду, продукты, вытащили вторые рамы окон, оставили нас голодными и холодными. В 1933 году была засуха, наступил страшный голод. Отец, бабушка и один ребенок умерли. Маму обижали, кто и как мог: и власть, и люди, потому что не колхозники. Старший брат не выдержал и уехал, остались нас трое и мама. Голод заставил нас побираться. У мамы оставалась одна старая шуба, и ту власти сорвали с плеч за налог, а налоги были непосильные.
Наступила зима, топиться было нечем, стены и окна покрылись снегом. Мы малы, а маме было не под силу добыть дров. Но в школу мы ходили. Хотя были голодные и холодные, и одежда на двоих с братом, но учились хорошо. В школе тоже испытание: родителей в колхоз гнали, а нас — в пионеры. Мы отказывались, боялись греха. А еще я увидела, что галстук похож на кровь. Крепился он зажимом, а на зажиме вверху написано: «Будь готов», в середине костер, а внизу — «Всегда готов» в этот костер. Меня это сильно напугало. До семи лет я ходила в сельскую школу, в 1939 году уехала к сестре в Калинин, где проучилась еще один год, хотя совсем неудачно.
Вера Сазонова: Арест священника
Церковь была в трех километрах от нашей деревни, в селе Волгово. Меня там крестил иеромонах Иона. Он был «иосифлянин», недолго прослужил, вскоре заболел и умер в Питере. Похоронен на Серафимовском кладбище. Я ухаживаю за его могилкой. Потом прислали к нам отца Георгия, вероятно, в двадцать девятом или весной тридцатого года, моего младшего брата в тридцатом уже он крестил, и служил он до тридцать пятого года. <…>
Все его очень любили и почитали. Купят ему сапоги, а он поедет в Питер — возвращается босой. «Ну, батюшка опять кого-то приобул». Опять ему купят… А был такой случай, крестная рассказывала. Шел отец Георгий по заригам (за огородами), повернул к моей крестной, а там матушка Мария картошку копает. У нее спина очень болела, — вот она все ёжилась. Батюшка подходит потихоньку и как оттянет ее своей тросточкой. Она как закричит! А он: «Что ты ёжишься, давай копай»! Она выпрямилась, и боль прошла! И все — спина перестала болеть… Когда отец Георгий к нам только прибыл, увидел — деревушка маленькая. «Я тут не просуществую». А дядя Александр Ильич, папин брат говорит ему: «Батюшка, да я один Вас прокормлю, только оставайтесь ради Бога». Дядя был старостой в церкви, помню, всегда, когда причащались, он стоял в церкви и плат держал у Чаши. Любила я его…
Он был постарше папы, их одиннадцать детей в семье было, братьев и сестер Харламовых, а еще и двоюродные. И папа в семье был младшим, а самый старший — дядя Вася. Помню, каждый вечер к нам приходил, и мы играли: кучу спичек высыпает на стол, и нужно осторожненько вынимать, если пошевелятся, то щелчки по лбу получали. Однажды дядя Александр нагрузил воз сена и хотел везти в другую деревню к своей сестре, а отец Георгий остановил его: «Саня, ты куда?» Тот: «Повезу сено Володе (мужу сестры)». — А у Федора сена хватит корове? — Да они любят на широкую ногу. «Вот поворачивай лошадь и вези к Федору. У него шесть человек детей. А у Володи одна дочь». Убедил. Отвез дядя сено к Федору и сгрузил.
В тридцать пятом году арестовали дядю Александра вместе с отцом Георгием прямо в церкви. Забирали их с отцом Георгием прямо во время службы. И всех, кто был в церкви, тоже, и даже тех, кто шел еще на службу, прямо на дороге хватали.
Отцу Георгию дали восемь лет, помню, как пришла крестная, рассказывала, а все плакали. Когда его вели, он их увидел и показал пальцем вверх. Они поняли и в бане, где он прежде жил, под крышей в соломе нашли пачку писем, говорили потом, что там было много писем от митрополита Иосифа. Отец Георгий его знал и переписывался с ним через доверенных людей. Конечно, они побоялись это хранить, и все сожгли, кроме одного письма, его потом переписывали.
В нашей деревне было строго, днем никогда не собирались, молились только по ночам, старались прийти на молитву в темноте и уйти затемно. Когда наш христианин приходил, в окно стучал три раза, а мы спрашивали: «Кто?» Тот называл село, откуда он, тогда ему открывали. Часто собирались в нашем доме, приходило человек по тридцать. Мы вначале помолимся, молитву каждый читал, я читала вслух, остальные про себя, три акафиста за раз. Кто-то из братьев выбирал место из «Нового завета», читал, и проповедь толковалась, потом все вставали и пели духовные стихи.
Братья Чесноковы, Василий и Дмитрий, на священство смотрели отрицательно, но мнение их по этому вопросу было разное.
Они говорили нам о последних временах и предупреждали: «Кто хочет молиться — на крест пойдет. Господь страдал и нам велел». Но маленько ошиблись они, думали, что как в тюрьму нас возьмут, Господь нас к себе из тюрьмы и возьмет. А мы вон сколько живем…
При Чесноковых общее покаяние проходило редко, сначала читали «Покаянный канон», потом молились, потом каждый подходил к иконе и, стоя, вслух каялся, затем три раза поклон пред иконой, а все слушали (при каких-то грехах большое смущение было у молящихся, не все можно вслух говорить, да при детях). Но это редко было. По окончании службы расходились по-тихому, кто далеко жил, оставались ночевать у нас. Ребятишки всегда были понятливые, стояли на страже верно, лишнего ничего не болтали. <…>
После ареста братьев Чесноковых мы все равно продолжали ходить по селам и молиться, но с Федором Ивановичем ходили уже реже. Между собой мы называли себя христианами, а потом из лагеря дядя мой пришел и сказал, что именоваться надо истинно-православными христианами. За нами следили постоянно, так что мы ни к кому не ходили, никакой возможности не было, да и бесед уже не было. Мы знали, что нас посадят, власти ведь запрещали слово Божье говорить, а мы говорили и по селам ходили. По ночам ставили патрули, и тяжело было пройти из села в село, так мы ползком пробирались по огородам.
Батька мой вместе с отцом своим Евгением скрывался до тридцать шестого года у брата в Ефремовке Ростовской области. Дядька мой делал кадушки, отец ему помогал, тем они жили. И в скитаниях своих отец познакомился с одним священником, который отказался в церкви служить. И батюшку, Константином его звали, пустила к себе жить старушка. У них маленькая хатенка была, и жил там батюшка с матушкой. Как-то повел меня отец с дядькой к батюшке за восемнадцать километров, а было мне уже одиннадцать лет. Пока дошли туда, я так устала, что уже ничего не понимала. Батюшка Константин служил прямо в этой хатенке. Взял он меня на руки и носил вокруг столика, там же меня он миропомазал и сказал: «Теперь ты по-настоящему крещеная».
А в тридцать шестом году, за две недели до Михайлова дня, арестовали батюшку Константина. Осудили его и отправили в лагерь. А в ноябре, накануне Михайлова дня, появился вдруг у нас батька. Вернулся домой, решив, что уже столько лет прошло. А они сразу узнали. Утром отец встал, помолился, псалтырь почитал и не успел надеть сапоги, как во двор въехал «активист» колхозный. Соскочил и с налету в хату: «Давай в правление, там тебя ждут». А куда отцу деваться?
Батька помолился Богу, попрощался с нами, вышел из хаты. А трехлетняя сестренка дала ему пышечки, которые ей мама дала, со словами: «На, папа. Возьми на дорогу». Папа нам лишь сказал: «Простите. Я уже не вернусь».
Я сразу же схватила папины книжки, бросила их в яму для картошки в кладовке и чем-то забросала. А тут милиционер прибежал, заскочил в хату: «Здравствуйте, хозяин дома? Где хозяин?» А мы ему: «Уже увезли». Он тогда: «Я буду делать у вас обыск. Где ваши церковные книги?» Мы: «Нет у нас никаких книжек». Я крестилась и молилась, а он все в хате перекидал, но в кладовку не пошел. Господь хранил нас. А батьку в каземат посадили, а ночью на Кущевку отвезли, за пятьдесят километров. Три месяца его допрашивали, потом велели нам принести смену белья и продукты…
В 1937 году снова начались аресты. Забирали всех подряд, не только там иеромонахов или верующих забирали, а всяких, каких попало. О, какие были жуткие аресты! Владыку Вениамина сначала арестовали. Сколько уж прошло времени, не знаю, нас арестовали: меня, его брата иерея Михаила Троицкого, монахиню Филарету, у которой владыка жил, старушечку Наталью Павловну, из Уфы она была, уважала очень владыку, за ним ездила. А вот была со мной одна инокиня, жили в одной комнате, она осталась, а меня арестовали.
Судили в Ульяновске. В первом полугодии 1937 года давали по 5 лет всем, а во втором полугодии, а меня в декабре судили, уже по 10 лет. В тюрьме били сильно, через стенку слышно было, как били, и как кричали люди.
Как-то после допроса встретила в коридоре отца Михаила, брата владыки. Он был весь избит, черный, глаза заплыли: «Рипсимиюшка, ты же знаешь, я ни в чем не виноват».
Потом его этапом отправили в Архангельск, и он умер в дороге. С ним была матушка Филарета. И старушка наша не выдержала, умерла на пересылке в Сызраньской тюрьме. После суда погнали и меня на этап. Я еле шла, — сил нет, а чуть отстанешь, собаки хватают за ноги. Потом привезли куда-то.
Тайга. Свердловская область, Серовский район, станция Сосьва. Дальше не было пути, поезда не ходили, была сплошная тайга. И вот сюда всех на лесоповал присылали. Лагерь большой был, рядом село, где жило начальство Севураллага. В лагере наш этап был первым, за кем привозили еще людей. Заставляли нас пни корчевать — это для всех была непосильная работа, потому что от недоедания ни у кого сил не было. Меня поставили сучки обрубать, а я ведь и топор никогда в руках не держала. Рублю-рублю, а сучья все на месте. Руку себе чуть не отрубила тогда. После этого меня отправили в столовую посуду мыть. Видела, как люди страдают, бедненькие: супчик с крупочкой какой-нибудь дадут им, так они выпьют этот супчик весь, а потом каждую крупиночку собирают в рот. Я уж там про себя-то забывала — мне людей было очень жалко.
Поджила рука, отправили меня на скатку бревен. Там со мной уже сердечный приступ случился. Работала, и вдруг ноги подкосились, дышать стало нечем. Прислонили меня к дереву, а вечером принесли на носилках в барак. А там сразу в лазарет. Я долго болела. Помню, один раз сердце отказало совсем: все слышу, а глаза открыть не могу, и дыхания почти нет. Слышу, говорят рядом: «Умерла». Но Господь сохранил и в этот раз. Потом четыре с половиной года я медсестрой работала, я знакома была немного с медициной. И косить-то нас посылали, а я и косу-то не умела держать. Так там умеешь – не умеешь, давай, работай.
Конечная моя, что ли, остановка: после лечения по наряду меня взяли в швейный цех, — нашли, что я портниха. К тому времени я уже инвалидность в лагере получила, и на общие работы меня не посылали. Работала в цехе закройщицей, денег не давали, конечно, нисколько, но за кусок хлеба ценилась наша работа. Вот здесь я и кончила весь срок. В сорок седьмом году в декабре месяце освободилась. Ехали обратно долго, восемь суток, я, помню, до того изнемогла, что больше не могла уже. На вокзале легла около стенки, вытянулась, так и уснула — все на свете забыла. Часа два-три, наверное, я спала, на вокзале, на полу у двери. А там был какой-то старичок, священник, тоже ехал с нами, потом был еще дядечка из другого лагпункта, бухгалтер. Я когда проснулась, они говорят: «А мы вас караулили. Как вы спали хорошо…»
Когда коллективизация началась, двенадцать дворов на раскулачивание записали. Сразу же увезли ночью на черном вороне нескольких мужиков, наших певчих, потом в двенадцать часов ночи увозили и остальных мужиков. А папу нашего взяли, на следствии его и еще двух священников заставляли отречься. Один священник отрекся, его заставили даже поплясать, и он начал служить по-новому. Папа не отрекся, это было перед Пасхой. Его отпустили, он пришел домой, упал на колени: «Ну, детки, пойдем в последний раз послужим, а потом меня заберут!» Ему дали бумагу, в которой было указано, как служить: это читать, это не читать… Вскоре его отвезли в тюрьму, а потом нам пришло известие, что отца можно забрать. Привезли его на тележке в избушечку, в которой мы тогда жили. После он все время болел, лежал, не вставал и вскоре умер. <…>
Стали обыск делать, мне сказали: «Бери, что тебе надо. Сухари бери, одеяло бери». Взяла я сухари, картошку обтерла и вымыла, лепешки постряпала и посушила их маленько — все приготовила. А они вывалили все на стол, спрашивают: «А это что такое?» Я: «Сухари». Они удивились: «Что за сухари?» Я: «Из травы они и картошки тертой гнилой». Увидел он, что я испугалась, сам стал искать в сундуке белье мне, нашел одеялку тканую и пару белья. Повели меня в сельсовет на допрос, а дочка маленькая, ее напугали при обыске, она бежала по деревне за мной, кричала и плакала. Там допрашивать стали, спрашивали: «Где молилась? Куда ходила? Где крестилась? Как долго молилась?» Так до самого утра пытали. В одиннадцатом часу вечера забрали и вот до самого утра… Так арестовали меня, а дочку отобрали и в детдом сдали. <…>
Потом машину подогнали и повезли нас, двенадцать человек, в Чистополь. Там при обыске крест у меня на груди увидели и потребовали: «Давай крест снимай». Я: «Крест не сниму. Зачем я буду крест с себя снимать? Я за это и иду страдать». Потом машину подогнали и нас повезли. Прежде в Казань привезли на допрос, при обыске там у меня крест увидели: «Давай крест снимай». Я говорю: «Крест не сниму. Зачем я буду крест с себя снимать? Я за это иду только». Перекрестилась: «Во имя Отца и Сына и Святого духа. Вы что хотите, чтоб я без креста была? Я крест не скину». И в камере сразу крест зашила в фуфайку. Потом меня позвали: «Айда хлеб получать». Получать хлеб пошли, а я опять не расписываюсь, говорю: «Расписываться я не буду. Господь у меня росписи не берет. Никакой росписи я не хочу, чтобы вот расписываться за хлеб». — «Ну, тогда мы хлеба тебе не дадим». Но потом все-таки дали и, сколько мне дали хлеба, я услала домой. Меня спросили: «А зачем ты усылаешь?». Я говорю: «Они голодные там у меня совсем».
Потом привезли нас в Чистополь, нас двенадцать человек было. Они-то все вместе, а меня все одну закрывали. Всех вместе, а я одна. А там вшей полно, никакого покоя не было, кусают и кусают. Потом в баню меня повели, а потом по одиночкам стали всех раскидывать, кого куда. Потом меня опять закрыли одну, в какой-то ящик, собачий ящик.
Потом на допросы стали вызывать, надевали на руки наручники и те же вопросы задавали: «Где молились? Где были и куда ездили?» Потом осудили меня на десять лет и в Сибирь увезли.
В лагере сразу сказала: «Я на работу не пойду. У меня девчонка и мама больные остались». На меня наручники надели и на «комарье» поставили. Им, комарам, воля, они кусают, а отмахнуться ведь нельзя. Кровь льется, все лицо мое распухло, я уже забывалась. Потом упала и запела молитву «Матери Божией». Подошли ко мне охранники и рабочие, больно охота им послушать. А я пела молитву и пока пела, они ключ от наручников искали, они его потеряли. А у меня уже наручники в руки впились. Еле-еле нашли они ключ, открыли их. Отработали рабочие смену, стали расходиться, меня и отпустили тогда.
А потом зачитали мне: «Пять суток карцера». А в карцере-то спальные доски поднимаются и закрываются на замок, чтоб не лежала и не сидела, там только стоять можно было. Так все время и стояла, а пол-то цементный. Ничего не давали, ни одежды, ни валенок, все скидывали с меня, чтоб нельзя было согреться. Потом вернули в барак, утром встала я, а меня назначили на работу. И опять я сказала: «На работу не пойду. Я не работать пришла сюда, а ради Господа. Если вы меня сюда насильно привезли, так зачем мне работать». И опять в карцер, а из карцера в БУР. А там только трещинки в окошке светятся, заколочены окошки. Всего лишили там: и хлеба, и воды, и тепла.
Мы в бараке только молились, просили Господа, чтоб нас не оставил. Целый день «на комарах» стояли, а потом в барак на молитву шли. Я на поверку тоже не ходила, за это опять мучение было — или наручники надевали и на «комарье», но чаще в карцер сажали. Так что в лагере я все больше в карцере сидела. Хлеба нам давали всего по триста грамм, да и хлеб-то сырой да серый. Но перед кануном Пасхи старались есть пайку хлеба понемногу, все-таки откладывали хлеб. Все думали: «На Пасху досыта поедим». А начальник пришел, приказал «шмон» сделать, и все у нас отобрали да в каптерку бросили. Вот и поели мы…
В лагере я отсидела пять лет, потом пять лет в ссылке в деревне Шугуры Альметьевского района. Потом домой пришла, и вскоре меня опять в ссылку в Сибирь отправили. Так и получилось, что я десять лет отсидела в ссылке.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Православная Церковь.
 Будем учиться на примере малых вещей, если не можем сразу понять великие.
Будем учиться на примере малых вещей, если не можем сразу понять великие.
Если мы не можем понять, как душа человеческая не может ни единой минуты жить без Бога, посмотрим на то, как тело человеческое не может ни единой минуты прожить без воздуха.
Автор: Рассказчик. Дата публикации: . Категория: Гонения на верующих.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Российская Православная Церковь.
 Николай Васильевич Гоголь в своей жизни много путешествовал, объездил всю Европу, совершил паломничество в Иерусалим, собирался ехать на Святую гору Афон. Не раз бывал он в известных русских монастырях, в том числе в Оптиной Пустыни.
Николай Васильевич Гоголь в своей жизни много путешествовал, объездил всю Европу, совершил паломничество в Иерусалим, собирался ехать на Святую гору Афон. Не раз бывал он в известных русских монастырях, в том числе в Оптиной Пустыни.
Слух о благодатных Оптинских старцах с первой трети ХIХ века начал привлекать в монастырь едва ли не всю верующую Россию – от крестьянина до государственного деятеля, искавших духовного утешения и наставления, а также ответа на жизненно важные вопросы. Приезжали туда русские писатели-мыслители – Иван Киреевский, Федор Достоевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев. В этом ряду был и Гоголь, который с одобрением относился не только к молитвенной жизни пустыни, но и к ее издательской деятельности.
В середине 1840-х годов по инициативе преподобного Макария и его духовных чад в миру Ивана Васильевича и Наталии Петровны Киреевских в Оптиной Пустыни началось издание святоотеческой литературы. Среди многих книг были выпущены творения преподобных отцов Исаака Сирина, Нила Сорского, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Аввы Дорофея. Настоятель монастыря архимандрит Моисей вместе со старцем Макарием рассылали эту литературу по всей России, в первую очередь в Духовные семинарии и академии, на Афон, а также епископам всех епархий. Это была забота о духовном просвещении русского народа. Такую же цель имел и Гоголь.
В Оптиной Пустыни Николай Васильевич бывал трижды: в июне 1850 года и в июне и сентябре 1851 года. Когда у него созрел замысел первой поездки – в точности неизвестно. Первое документальное свидетельство об интересе Гоголя к Оптиной относится к 1846 году. Камер-юнкер Владимир Муханов, лечившийся в ту пору за границей, писал в августе этого года сестрам из Остенде: «Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечателен, в особенности по набожному чувству христианской любви... Недавно читал он нам два прекрасных письма молодого Жерве[1] к своему отцу, писанные из Оптиной Пустыни. Мы слушали с умилением. Сколько веры и любви в молодом подвижнике, оставившем мир и все прелести в тех летах, когда они так обольщают человека, и посвятившем себя Богу! Какое тихое и торжественное спокойствие в этой душе, достигшей пристани!»[2].
По всей вероятности, в Оптину Гоголя направил Иван Киреевский. Духовный сын преподобного Макария, он как никто другой понимал значение старчества. «Существеннее всяких книг и всякого мышления, – писал он своему другу Александру Ивановичу Кошелеву, – найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых отцов. Такие старцы, благодаря Бога, еще есть в России...»[3]. Без сомнения, такие же мысли Киреевский высказывал и Гоголю. Во всяком случае, в июне 1850 года Гоголь вместе с Михаилом Максимовичем проездом на юг, в Малороссию, заезжает в Оптину.
Игумен Антоний был одним из трех братьев Путиловых, известных подвижников христианского благочестия. В течение четырнадцати лет он был начальником Иоанно-Предтеченского скита, последующие четырнадцать лет управлял Малоярославецким Николаевским монастырем и потом двенадцать лет прожил на покое в Оптиной Пустыни. Его брат, архимандрит Моисей, был настоятелем Оптиной почти сорок лет; за эти годы монастырь совершенно преобразился и обустроился, развернулась его издательская деятельность, расцвело старчество. Третий брат Путилов, отец Исаия, был игуменом Саровской обители.
16 июня Гоголь и Максимович провели в Калуге, а днем обедали у Александры Осиповны Смирновой, супруги калужского губернатора, давней приятельницы Гоголя. Здесь, в присутствии известного поэта графа Алексея Константиновича Толстого, Николай Васильевич говорил о своем намерении «проездиться по России». Пантелеимон Кулиш, первый биограф Гоголя, рассказывает со слов Максимовича: «Между прочим, путешествие на долгих было для него (Гоголя. – В. В.) уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частию были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, "чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился"»[4].
Из Калуги Гоголь и его спутник отправились в Оптину Пустынь. Последние две версты до монастыря они прошли пешком, как и полагается паломникам. По дороге встретили девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее ягоды. Но та, видя, что они люди дорожные, не захотела взять денег и отдала землянику даром со словами: «Как можно брать со странных людей». «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – сказал Гоголь, умиленный этим явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».
Здесь Гоголь на следующий день написал письмо оптинскому иеромонаху Филарету (бывшему наместнику Московского Новоспасского монастыря, проживавшему с 1843 года на покое в Оптиной): «Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо...» Гоголь понял, что оптинский дух стал для него жизненно необходимым: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской Пустыни».
Посещение монастыря произвело на Гоголя глубокое впечатление. Спустя три недели он писал графу Александру Петровичу Толстому из Васильевки: «Я заезжал по дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует... Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное... За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители...»
В первый приезд Гоголя в Оптину произошло его знакомство с человеком удивительной судьбы, Петром Александровичем Григоровым, в то время рясофорным иноком. В мире он был гвардейским офицером и служил в конной артиллерии; из прошлой его жизни широко известен забавный эпизод. Однажды на батарее Григорова появился штатский молодой человек (это было близ Задонска); когда в нем был узнан Пушкин, пылкий артиллерист, поклонник великого поэта, немедленно произвел пушечный салют в его честь, за что и был посажен на гауптвахту.
Иноческую жизнь Петр Григоров начал келейником у знаменитого Задонского затворника Георгия, духовную близость к которому он сохранил и перейдя в Оптину Пустынь. Им были изданы «Письма в Бозе почивающего затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия» с кратким жизнеописанием, составленным по запискам его келейников (в том числе самого Григорова).
По приезде Гоголя игумен Моисей поручил послушнику Петру показать гостю храмы и другие строения обители. Несмотря на краткость знакомства и беседы, Гоголь очень полюбил Григорова и впоследствии говорил о нем: «Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он, напротив того, любит всех людей как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может дойти истинный христианин». Григоров уже в то время был тяжко болен, но недуг свой умел скрывать, пока это было возможно.
Гоголь рассказывал своему новому другу много любопытного, в частности о чуде у мощей святителя Спиридона Тримифунтского. В Оптиной сохранилось следующее предание, пересказанное преподобным Амвросием: «С IV века и доныне Греческая Церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского, которые не только нетленны, но в продолжение пятнадцати веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывши в Оптиной Пустыни, передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию Григорову), что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай»[5].
По отъезде из Оптиной, уже из Васильевки, Гоголь написал Григорову письмо, прося показать обитель и своему племяннику Николаю Трушковскому, едущему поступать в Казанский университет. О посещении монастыря Гоголь вспоминал с сердечной теплотой: «Ваша близкая к небесам пустыня и радушный прием ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоминанье».
В заключение Гоголь просит молитв, «в особенности отца игумена», и передает деньги на молебен (десять рублей серебром) о благополучном путешествии к святым местам и о благополучном окончании сочинения своего – «Мертвых душ» – «на истинную пользу другим и на спасенье собственной души».
Николай Трушковский приехал в Оптину в очень неподходящий момент; Петр Григоров только что был пострижен в мантию с именем Порфирий и неисходно находился пять дней в храме. Но он поручил другому человеку показать юноше монастырь и дал ему рекомендательные письма к влиятельным лицам в Казани.
Переписка Гоголя с отцом Порфирием продолжалась зимой 1850/51 года. Очевидно, еще летом у них шел разговор о книгах затворника Задонского Георгия. Его письма Гоголь читал и раньше: выдержки из них есть в составленном им сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Церкви. Тогда Гоголь пользовался изданием 1839 года. Теперь отец Порфирий посылает ему последнее издание – 1850 года, в трех томах, дополненное новыми письмами и «Кратким известием о жизни затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия».
Отвечая на не дошедшее до нас письмо Гоголя из Одессы (от декабря 1850 года), отец Порфирий писал ему из Оптиной Пустыни 26 января следующего 1851 года (последнего года в своей жизни): «Препровождаю к вам обещанные мною книги затворника Задонского Георгия... Вы увидите, что и он был поэт и душа его стремилась к небу... Я надеюсь, что и жизнь его прочтете с удовольствием»[6].
Гоголь отвечал отцу Порфирию из Одессы 6 марта 1851 года: «Много благодарю вас и за письмо и за книгу Затворника. Как она пришлась мне кстати в наступивший Великий пост!.. Как мне не ценить братских молитв обо мне, когда без них я бы давно, может быть, погиб. Путь мой очень скользок, и только тогда я могу им пройти, когда будут со всех сторон поддерживать меня молитвами». В приписке Гоголь передавал душевный поклон настоятелю, отцу Филарету и всей братии.
Этого письма отец Порфирий, по всей видимости, получить не успел: он мирно почил о Господе 15 марта 1851 года сорока семи лет от роду, приобщившись за несколько минут до кончины Святых Таин. Свою смерть отец Порфирий предсказал за неделю. Внешне она произошла как следствие сильной простуды. Во время своей предсмертной болезни инок имел извещение о близкой кончине, и ему трижды являлся во сне преставившийся за шесть лет перед тем послушник Николай (которому при жизни отец Порфирий оказывал особое благорасположение) и говорил ему, чтобы он готовился к исходу из сей жизни. А накануне его кончины девяностолетний старец отец Иларион Троекуровский, живший в Лебедянском уезде за триста верст от Оптиной и не знавший ничего о болезни отца Порфирия, прислал ему рубашку (в которой он и преставился), пузырек масла и кусок ржаного хлеба, выразив, однако, сомнение, что посланное застанет инока в живых.
Во второй раз Гоголь был в Оптиной Пустыни проездом с юга в Москву в июне 1851 года. Об этом посещении, выпавшем из поля зрения биографов писателя, известно из записи в дневнике оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова) от 2 июня 1851 года: «Пополудни прибыл проездом из Одессы в Петербург (на самом деле в Москву. – В. В.) известный писатель Николай Васильевич Гоголь. С особенным чувством благоговения отслушал вечерню, панихиду на могиле своего духовного друга, монаха Порфирия Григорова, потом всенощное бдение в соборе. Утром в воскресенье 3-го числа он отстоял в скиту Литургию и во время поздней обедни отправился в Калугу, поспешая по какому-то делу. Гоголь оставил в памяти нашей обители примерный образец благочестия»[7].
Именно во второй свой приезд в Оптину Гоголь познакомился с преподобным старцем Макарием. Есть предание, что отец Макарий, обладавший даром прозорливости[8], предчувствовал приход Гоголя. Старец Варсонофий рассказывал своим духовным детям: «Говорят, он был в то время в своей келлии (кто знает, не в этой ли самой, так как пришел Гоголь прямо сюда) и, быстро ходя взад и вперед, говорил бывшему с ним иноку: «Волнуется у меня что-то сердце. Точно что необыкновенное должно совершиться, точно ждет оно кого-то». В это время докладывают, что пришел Николай Васильевич Гоголь»[9].
Почти несомненно, что в беседе со старцем речь зашла и о «Выбранных местах из переписки с друзьями». В библиотеке Оптиной Пустыни хранился экземпляр книги с вложенным в нее отзывом святителя Игнатия (Брянчанинова), переписанным рукой преподобного Макария. Неизвестно, каким путем этот отзыв попал в Оптину; возможно, его привез сам Гоголь, узнавший мнение святителя (в ту пору архимандрита) еще в 1847 году.
Гоголь был едва ли не единственным русским светским писателем, творческую мысль которого могли питать святоотеческие творения. В один из приездов в Оптину он прочитал рукописную книгу – на церковнославянском языке – преподобного Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было подготовлено печатное издание), ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мертвых душ», принадлежавший графу Толстому, а после его смерти переданный отцу Клименту (Зедергольму), с пометками Гоголя, сделанными по прочтении этой книги. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идет о «прирожденных страстях», он набросал карандашом: «Это я писал в "прелести" (обольщении. – В. В.), это вздор – прирожденные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение "Мертвых душ". Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, – не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души»[10].
В этот приезд в Оптину Гоголь узнал об обстоятельствах смерти отца Порфирия и беседовал со старцами. По возвращении в Москву он пишет письма игумену Моисею и старцу Макарию (последнее не сохранилось[11]), в которых благодарит за гостеприимство, просит молитв и посылает деньги на обитель (двадцать пять рублей серебром). Старцы, в свою очередь, благодарят Гоголя, а преподобный Макарий, кроме того, благословляет его на написание книги по географии России для юношества.
Замысел этого труда возник у Гоголя давно и именно с ним связаны предполагаемые поездки по монастырям. В набросках официального письма (июль 1850 года) высокому лицу, испрашивая материальной помощи на три года, он излагает свои соображения по этому поводу: «Нам нужно живое, а не мертвое изображенье России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев... Книга эта составляла давно предмет моих размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим трудом и, может быть, в одно время с ним будет готова. В успехе ее я надеюсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся, на споспешество всех истинно знающих ее людей, которым дорога ее будущая участь и воспитанье собственных детей, а пуще всего на милость и помощь Божью, без которой ничто не совершится...»
Старец Макарий преподал искомое благословение, но предупредил сочинителя, чтобы тот ждал препятствий в благом деле: «...по желанию вашему не смею отказать и только тем могу служить, что, взяв перо, простираю мою грешную руку на сию хартию, а вера ваша да будет ходатайством у Господа внушить мне слово к вашему утешению... В благом вашем намерении об издании полезной книги Бог силен даровать вам свою помощь, когда будет на сие Его святая воля. Но, как пишут святые отцы, что всякому святому делу или предыдет, или последует искушение, то и вам предложится в сем деле искус, требующий понуждения»[12]. Гоголь не успел осуществить этого замысла.
Третий и последний раз Гоголь посетил святую обитель в сентябре 1851 года. 22 сентября он выехал из Москвы в Васильевку на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны, намереваясь оттуда проехать в Крым и остаться там на зиму. Однако, доехав до Калуги, он отправился в Оптину, а потом неожиданно для всех вернулся в Москву. Поездка породила разнообразные толки среди знакомых Гоголя. Достоверно известно следующее.
24 сентября Гоголь был у старца Макария в скиту и на другой день обменялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь пребывал в нерешительности – ехать или не ехать ему на родину. Он обратился к старцу за советом. Тот, видя тайное желание Гоголя возвратиться в Москву, и посоветовал ему это. Но Гоголь продолжал сомневаться. Тогда отец Макарий предложил все-таки поехать в Васильевку. Очевидно, мысль о дальнем путешествии испугала Гоголя, и старец, в полном недоумении, оставил решение за ним самим, благословив его образком преподобного Сергия Радонежского, память которого совершалась в тот день.
Вероятно, во время последней встречи Гоголя со старцем Макарием между ними состоялся какой-то разговор, содержание которого нам неизвестно. Возможно, Гоголь имел намерение остаться в монастыре. Преподобный Варсонофий рассказывал в беседе со своими духовными чадами: «Есть предание, что незадолго до смерти он (Гоголь. – В. В.) говорил своему близкому другу: "Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял..." – "Чего? Отчего потеряли вы?" – «Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?"»[13]. Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя Анны Васильевны, которая писала Владимиру Шенроку, биографу писателя, что брат ее «мечтал поселиться в Оптиной Пустыни»[14].
По словам преподобного Варсонофия, старец Макарий отнесся к желанию Гоголя с определенной осторожностью: «Неизвестно, заходил ли раньше у Гоголя с батюшкой Макарием разговор о монашестве, неизвестно, предлагал ли ему старец поступить в монастырь. Очень возможно, что батюшка Макарий и не звал его, видя, что он не понесет трудностей нашей жизни».
Посмертная связь Гоголя с Оптиной Пустынью продолжалась. Летом 1852 года Степан Петрович Шевырев, друг и душеприказчик Гоголя, возвращаясь из Васильевки, куда он ездил навестить родных покойного и собрать материал для его биографии, заезжал в монастырь, где прочел его насельникам «Размышления о Божественной Литургии». Оптинские иноки, хорошо помнившие Гоголя, нашли это сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет»[15].
В следующем году, весной, Мария Ивановна Гоголь послала в Оптину письмо и деньги. Игумен Моисей отвечал ей 30 мая из монастыря: «Почтеннейшее ваше письмо от 19-го сего мая и при оном пятьдесят рублей серебром от усердия вашего имел честь получить, согласно христианскому желанию вашему на приношение в обители нашей при Божественной Литургии выниманием частей о упокоении незабвенного и достойного памяти сына вашего Николая Васильевича. Благочестивые его посещения обители нашей носим в памяти неизгладимо. По получении нами из Москвы печального известия о кончине Николая Васильевича, с февраля прошлого 1852 года исполняется по душе его поминовение в обители нашей на службах Божиих и навсегда продолжаемо будет с общебратственным усердием нашим и молением премилосердого Господа: да упокоит душу раба Своего Николая во Царствии Небесном со святыми, а вам да ниспослет свыше благословение, здравие и небесное утешение в огорчительном лишении единственного сына»[16].
Мария Ивановна была в Оптиной на Пасху 1857 года и прожила там девять дней со своим внуком Николаем. Господь призвал к Себе родительницу Гоголя в возрасте семидесяти шести лет, как и его отца, – на Светлой седмице.
Последнее суждение о Гоголе-христианине, едва ли не самое точное и глубокое, было вынесено после смерти его Оптиной Пустынью. Летописец обители, иеромонах Евфимий, сурово оценив сатирическую сторону таланта великого писателя, следующим образом подытожил его земное странствование: «Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в нее уже погружены многие, им, его дарованием соблазненные люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову... Кто изобразит всю силу происшедшей отсюда душевной борьбы писателя и с самим собою, и с тем внутренним его врагом, который извратил божественный талант и направил его на свои разрушительные цели? Но борьба эта для Гоголя была победоносна, и он, насмерть израненный боец, с честью вышел из нее в царство незаходимого Света, искупив свой грех покаянием, злоречием мира и тесным соединением со спасающею Церковию. Да упокоит душу его милосердый Господь в селениях праведных!»[17].
В заключение приведем слова, сказанные новомучеником протоиереем Иоанном Восторговым на панихиде по Гоголю в 1903 году, в которых ясно видится смысл его духовного значения. «Вот писатель, у которого сознание ответственности пред высшею правдою за его литературное слово дошло до такой степени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то необычным, непонятным, ненормальным. Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдою Христовой. Да, отрадно воздать молитвенное поминовение пред Богом и славу пред людьми такому именно писателю в наш век господства растленного слова, – писателю, который выполнил завет апостола: слово ваше да будет солию растворено[18]. И много в его писаниях этой силы, предохраняющей мысль от разложения и гниения, делающей пищу духовную удобоприемлемой и легко усвояемой... Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии: они поддерживают благочестные и чистые литературные предания»[19].
[1] Речь идет о Петре Александровиче Жерве, отставном поручике, ставшем в 1844 году насельником Оптиной. Гоголь мог видеться с ним во время своих посещений обители.
[2] Миловский Н., священник. К биографии Н. В. Гоголя (О знакомстве его с братьями Мухановыми). М., 1902. С. 9–10.
[3] Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1911. С. 257.
[4] <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Т. 2. СПб., 1856. С. 232.
[5] Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Ч. 1. Второе издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, с дополнениями. Сергиев Посад, 1908. С. 81–82.
[6] Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1898. С. 831–832.
[7] Нилус С. Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. Сергиев Посад, 1911. С. 81.
[8] Это благодатное свойство преподобного Макария отразилось, в частности, в повести И. С. Тургенева «Степной король Лир». Матушка рассказчика советует герою повести Мартыну Петровичу Харлову отправиться в Оптину Пустынь: «Там, говорят, такой святой проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит». Кстати сказать, по словам старца Варсонофия, Тургенев был в Оптиной и восхищался красотой обители.
[9] Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры. СПб., 1991. С. 53.
[10] Матвеев П. Гоголь в Оптиной Пустыни // Русская Старина. 1903. № 2. С. 303.
[11] Письмо, как можно судить по ответу отца Макария, носило исповедный характер и потому было уничтожено.
[12] Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 828.
[13] Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры. СПб., 1991. С. 54.
[14] Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 260.
[15] Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной Пустыни: В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 233.
[16] Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца. Киев, 1902. Отд. III. С. 70–71.
[17] Нилус С. Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. С. 157.
[18] Кол. 4, 6.
[19] Восторгов И. И. Честный служитель слова /Речь на панихиде по Н. В. Гоголю по случаю открытия ему памятника в гор. Тифлисе, сооруженного городским самоуправлением // Полн. собр. соч.: В 5 т. Т. 2. СПб., 1995. С. 226–227.
Владимир Алексеевич Воропаев,
д. филол. н., проф. МГУ
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: История.
 В Риме, в одной из библиотек, найден неоспоримо правдивый манускрипт, имеющий большую историческую ценность. Это письмо, которое Публий Лентул, управляющий Иудеей до Понтия Пилата, писал властителю Рима Цезарю. В нем сообщалось об Иисусе Христе.
В Риме, в одной из библиотек, найден неоспоримо правдивый манускрипт, имеющий большую историческую ценность. Это письмо, которое Публий Лентул, управляющий Иудеей до Понтия Пилата, писал властителю Рима Цезарю. В нем сообщалось об Иисусе Христе.
Письмо на латинском языке и написано в те годы, когда Иисус впервые учил народ.


Содержание письма:
"Управляющий Иудеей Публий Лентул римскому Цезарю.
Я слышал, о Цезарь, что ты хотел бы знать о добродетельном муже, который наречен Иисусом Христом и на которого народ взирает как на пророка, как на Бога, и о ком Его ученики говорят, что он Сын Божий, Сын Создателя Неба и Земли. Истинно, Цезарь, ежедневно слышу об этом муже чудные вещи. Коротко говоря: Он повелевает мертвым вставать и излечивает больных. Он среднего роста, на взгляд - Он добрый и благородный, что выражается и в Его лице, так как при виде Его, нехотя должны почувствовать, что Его надо любить и почитать. Его волосы до ушей имеют цвет готовых орехов и оттуда до плеч светящийся светло-коричневый цвет; посередине головы пробор по обычаю назореев. Лоб гладкий, лицо без морщин и чистое. Его борода цвета волос, вьющаяся и, так как не длинная, то в середине разделена. Взгляд строгий и имеет силу солнечного луча; никто не имеет силы пристально взглянуть в них.
Когда Он упрекает, Он порождает страх, но только что сделав укор, Он Сам плачет. Хотя Он очень строг, но и очень добр и милый. Говорят, что Его никогда не видали смеясь, а несколько раз Его видели плачущим. Его руки красивы, одухотворены и выразительны. Всю Его речь считают приятной и привлекательной. Его редко видят в людях, но когда Он появляется, Он среди них выступает смиренно. Его выдержка, осанка очень благородна, Он красив. При этом Его мать самая красивая женщина, какую когда либо видели в этом округе.
Если ты хочешь Его видеть, о Цезарь, как ты мне однажды писал, то извести меня об этом, и я сейчас пошлю Его к тебе.
Хотя Он никогда не занимался, Он все же обладает полнотою Знаний; Он ходит босиком и с непокрытой головой. Многие насмехаются, когда видят Его издали. Но как только те находятся вблизи Его, они дрожат перед Ним и одновременно восхищаются Им.
Говорят, что в этом округе никогда еще не видели такого человека. Евреи уверяют, что еще никогда не было услышано такое учение, каким является Учение Его. Многие из них говорят, что Он - Бог, другие говорят, что Он твой враг, о Цезарь!
Эти злоумышленники-евреи меня, безусловно, обременяют. Говорят также, что Он никогда не поднимал беспорядка и волнений, но всегда старался всех успокоить.
Во всяком случае, я готов, о Цезарь, выполнять каждый твой приказ, который ты дашь мне в связи с Ним."
Иерусалим, 7 индикта, 11 месяца
Публий Лентул, управляющий Иудеей.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.
 Воскресенье, 30 декабря 1963 г./12 января 1964 г.
Воскресенье, 30 декабря 1963 г./12 января 1964 г.
Вчера получилъ твое письмо, въ которомъ были очень ясные отвѣты на мои вопросы и которое ободрило меня. У меня самого оптимизма все больше. Вчера мы получили первый оффиціальный отвѣтъ отъ одного издателя. Боялись, что они могутъ отказать въ скидкѣ (нѣкоторые отказываютъ), но они предложили 25%, такъ что можно включить въ нашъ списокъ 10-15 древнихъ Отцовъ.
Нашелъ я еще два магазина на Клементъ-стритъ, одинъ рядомъ съ 9-й авеню, другой рядомъ съ 25-ой, но самый первый рядомъ съ 24-й, по-моему мнѣнію, все-таки лучшій. Онъ все еще пустуетъ, увѣренъ, мы можемъ его снять за 35 долларовъ. Въ немъ, навѣрное, хватитъ мѣста для двухъ большихъ столовъ, примѣрно трехъ книжныхъ шкафовъ, одного письменнаго стола и нѣсколькихъ стульевъ, а въ окнѣ достаточно мѣста для выставки. Надѣюсь, ты скоро будешь здѣсь и посмотришь его, и мы уточнимъ также наши планы. Не вижу причинъ, почему намъ не завести это дѣло до начала поста (16 марта). На этой недѣлѣ узнаю насчетъ лицензіи и прочихъ формальностей.
Между прочимъ, я какъ-то встрѣчался съ группой англоговорящей православной молодежи, которые образовываютъ свое собственное сообщество. Не знаю, почему меня пригласили, но это былъ хорошій способъ узнать, какъ идетъ жизнь у другихъ православныхъ. Отвѣтъ: НИКАКЪ. Все мертво, абсолютно. Они искренни, у нихъ хорошія намѣренія, но имъ просто не съ чего начинать работу. Они не только не готовы питаться духовной твердой пищей, но едва ли готовы и для млека. Въ слѣдующій разъ, когда увидимся, разскажу тебѣ о нихъ. (Тѣ, съ которыми я встрѣчался, были сирійцы, изъ русской Митрополіи и украинцы, и они планируютъ еще расширить свою группу.) Они на самомъ дѣлѣ не составятъ намъ конкуренціи, поскольку ихъ планы не заходятъ дальше "внутриправославного" пониманія и изученія православныхъ "традицій" на очень элементарномъ уровнѣ; кромѣ того, ихъ интересъ не миссіонерскій, а туманно экуменическій. Они обращены внутрь себя и пытаются "понять" собственную религію, въ то время какъ мы собираемся нести міру богатства, которыхъ мы недостойны, но въ цѣнностяхъ которыхъ увѣрены. Одинъ изъ этихъ украинцевъ обронилъ презрительное замѣчаніе о нѣкоторыхъ русскихъ, которыхъ онъ зналъ и которые думаютъ, что сохраняютъ "настоящее" Православіе. Это о насъ и, я думаю, что намъ слѣдуетъ дѣлать какъ разъ то, въ чемъ онъ насъ обвиняетъ, – забыть другихъ православныхъ (за небольшими исключеніями, напримѣръ, Гора Аѳонъ и исповѣдники стараго календарнаго стиля, которые все еще всерьезъ воспринимаютъ Православіе) и сосредоточиться на русскихъ и американскихъ новообращенныхъ. Слѣдуетъ съ самаго начала подчеркивать нашу приверженность зарубежной Русской Церкви; это поможетъ отпугнуть, по меньшей мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ благонамѣренныхъ, которые думаютъ, что они такіе же "православные", какъ и всѣ; всѣ цѣли ихъ сотрудничества сведутся къ попыткѣ втянуть насъ въ болото экуменизма и компромисса.
Я все еще составляю предварительный проектъ вступительной брошюры, добавивъ предложенія изъ твоего послѣдняго письма. Думаю, важно, чтобы она была какъ можно точнѣе, убѣдительнѣе и въ то же время привлекательнѣе.
О печатаніи: я надѣялся, что бюллетень будетъ начатъ почти сразу же, и у меня есть по его содержанію нѣсколько опредѣленныхъ идей. Вотъ почему я подумалъ о Матушкѣ, при условіи, что мы сможемъ дѣлать работу сами и, такимъ образомъ, должны будемъ платить только за бумагу и краску. Если должны будемъ платить больше, то, конечно, намъ придется, быть можетъ, еще подождать.
И я, и Джонъ раздѣляемъ русское недовѣріе къ "организаціи"; хорошо будетъ, если наше Братство будетъ имѣть какъ можно больше духа и какъ можно меньше словъ. Причина, почему я спросилъ объ организаціи, была однако въ томъ, что никогда не годится настолько затуманивать вещи, что любой, кто считаетъ себя "православнымъ", будетъ думать, что это достаточная причина для присоединенія къ намъ. Ограниченія активно дѣйствующихъ членовъ тѣми, кто принадлежитъ къ зарубежной Русской Церкви и составленіе убѣдительнаго вступительнаго заявленія достаточно разъяснятъ суть нашей работы.
Финансовая проблема, кажется, почти рѣшена. Всѣ предварительные расходы, возможно, уложатся въ 25 долларовъ, и примѣрно черезъ мѣсяцъ у меня будетъ еще около 150 долларовъ (включая расходы на подоходный налогъ), которые я могу предоставить магазину на книги въ кредитъ (какъ дѣлаетъ Джорданвилль).
Кажется, пока по этой темѣ все. Я получилъ рождественскую открытку отъ твоей матери, за которую поблагодари ее, пожалуйста. Мы также получили доброе письмо отъ владыки Леонтія, который, возможно, будетъ очень полезенъ намъ въ будущемъ. Грибы въ нашихъ мѣстахъ почти отошли, но мы обнаружили новый и чрезвычайно вкусный видъ (опенокъ), который растетъ на корняхъ и стволахъ деревьевъ и очень распространенъ.
Между прочимъ, ты говорилъ, что знаешь кого-то, кто изготовляетъ рамы для картинъ? Пора подумать и о такихъ вещахъ. Кромѣ книгъ и иконъ, мы, возможно, сможемъ привезти, для начала только изъ Джорданвилля, религіозные предметы, такіе какъ кресты; быть можетъ, позднѣе лампадки, ладанъ и т.п.
Напиши, если у тебя есть какіе-нибудь новыя идеи или информація.
Во Христѣ,
Евгеній.
14/27 января 1964 г. Память свят. Саввы Сербскаго
Сегодня утромъ мы предоставили рѣшеніе нашего вопроса святителю Саввѣ и Господу нашему. Евангельское чтеніе святителю Саввѣ (Ин. 10, 9-16) заканчивается такъ: "И ины овцы имамъ, яже не суть отъ двора сего, и тыя Ми подобаетъ привести: и гласъ Мой услышатъ, и будутъ едино стадо и единъ Пастырь".
Въ моемъ собственномъ евангельскомъ чтеніи (каждый день по главѣ) я сегодня читалъ св. Луку, 10 – это, если ты помнишь, былъ тотъ самый отрывокъ, который я открылъ наугадъ, и оба мы читали, возвращаясь поѣздомъ изъ Кармела почти ровно годъ назадъ. "По сихъ же яви Господь и инехъ седмь десятъ, и посла ихъ по двема предъ лицемъ Своимъ во всякъ градъ и мѣсто, аможе хотяше Самъ ити, глаголаше же къ нимъ: жатва убо многа, дѣлателей же мало; молитеся убо Господину жатвы, да изведетъ дѣлателей на жатву Свою. (...) Не носите влагалища, ни пиры, ни сапогъ, и никогоже на пути цѣлуйте".
А Джонъ, открывъ наугадъ Псалтирь, прочиталъ (36, 16, 19, 23):
"Лучше малое праведнику, паче богатства грѣшныхъ многа. (...) Непостыдятся во время лютое, и во днехъ глада насытятся. (...) Отъ Господа стопы человѣку исправляются, и пути Его восхощетъ зѣло".
Я думаю, мѣсто рядомъ съ новымъ соборомъ превосходно. Если тамъ мы не сможемъ добиться успѣха, то не добьемся его нигдѣ. Само расположеніе его, вѣроятно, стоитъ тѣхъ пятидесяти долларовъ въ мѣсяцъ, которые указаны въ объявленіи. Я бесѣдовалъ съ владѣльцемъ и договорился, что мы начнемъ платить съ 15 февраля, такъ что почти три недѣли у насъ будутъ безплатно. Завтра оплачу аренду за первый мѣсяцъ. Сегодня вечеромъ поговорю съ Заваринымъ, но я увѣренъ, что они кое-что намъ ссудятъ. Они хотятъ поднять этотъ вопросъ на собраніи въ воскресеньѣ, и, можетъ быть, другіе тоже помогутъ. Они знаютъ нѣсколько мѣстъ въ Парижѣ, гдѣ можно достать русскія книги, причемъ одинъ изъ владѣльцевъ могъ бы давать намъ книги на тѣхъ же условіяхъ, что и Джорданвилль. Для неуспѣха нашего предпріятія нѣтъ причинъ. Сейчасъ (теоретически) у насъ 250 долларовъ, и намъ нужно (по моимъ расчетамъ) еще примѣрно 250 долларовъ, чтобы начать. Молись! Увидимся съ тобой въ пятницу.
Во Христѣ,
Евгеній.
P.s. Тебѣ нужно будетъ надавить на Джорданвилль. Убѣди ихъ, что я очень хитрый бизнесменъ (!). Снова свяжись съ Шурой и Владиміромъ, если необходимо, пусть они упаковываютъ книги!
Джонъ говоритъ, что это очень благопріятный день для начала нашей работы. Съ нами Богъ!
Автор: Интернет Собор. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

В.Черкасов-Георгиевский "В 2015 году завершился распад РПЦЗ – из «осколков» в «расколки» автокефальных епархий РПАЦ, РосПЦ, РПЦЗ(В-В), РПЦЗ(А), РИПЦ"
Распыление в «расколки» налицо теперь во всех РПЦЗ-осколках, и мы обозначаем это по главкам о группировках. Заголовочно по «расколочным» лидерам-архиереям автокефальных епархий (некоторые в виде якобы архиерейских совещаний, синода) выглядит так:
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Старица Агафия Белорусская и ее служение катакомбной Церкви
Память 5/18 февраля (+ 1939 г.)
"Течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды"
2 Тим. 4, 7-8
I
Матушка Агафья – так звали рабу Божию Агафию истинно верующие христиане, которые почитали ее за Богоугодную аскетическую жизнь. Но перед тем как начать описание этой, осмелимся сказать, благословенной жизни, кратко опишем верующих, посещавших ее.
Когда в нашем Отечестве произошла революция, верующие сразу же почувствовали антихристианский дух. Многие поднялись на борьбу против сатанинской власти. Но были и такие, кто фактически не мог вступить в бой против большевизма, к ним принадлежала матушка Агафия. Будучи в возрасте примерно ста лет, она проводила ночи в молитве с верующими, молясь Богу о спасении России. Она не имела другой возможности бороться против большевиков, кроме как словом Божиим. Распространяя его среди верующих, учила их не подчиняться советской власти ни при каких обстоятельствах, даже если придется пострадать, как впоследствии случилось со многими. До революции она была известна, наверное, только немногим людям. Но во время революции и после нее, особенно в страшные тридцатые годы, она стала широко известна жителям места, где она жила, и близлежащих районов.
Те, кто пострадал от ужасов революции и гонений на истинную Церковь, не ходили в так называемую "обновленческую" церковь. Характерно, что священники, которые подчинились советскому правительству, презирали этих бескомпромиссных людей, говоря: "Что бы вы ни делали, в конце концов, вам придется придти к нам".
Сначала истинные священники (матушка Агафия называла их так, потому что они не подчинились советскому правительству) совершали Богослужения в церквях, но когда против них начались гонения, они ушил в мир и стали служить тайно. Это духовенство основало катакомбную Церковь, места служения в которой были известны только верующим. Эти священники останавливались у матушки Агафии и часто совершали Богослужения у нее. Сообщения о них распространялись среди верующих. Таким образом, матушка Агафия стала известна большой группе людей, преданных катакомбной Церкви. Во время их посещений Матушки обнаружилась ее прозорливость, которая привлекала еще больше людей, ищущих истинную Церковь.
II
Старица Агафия родилась в деревне Шарыловка недалеко от Гомеля, в западной части Святой Руси. Родилась в 20-х годах XIX века. Ее родители были простые крестьяне, очень благочестивые. Они с раннего детства учили свою единственную дочь усердно молиться. Она родилась с параличом и не могла ходить и даже вставать на ноги. Ее родителям, рано утром уходившим работать в поле, приходилось оставлять ее дома. Они сажали ее в кровать наподобие детской, со стенками, под раскидистой грушей в саду и уходили. И девочка целый день оставалась там одна. Единственное, что она могла делать – это молиться. Вечером родители возвращались и заносили ее в дом.
Однажды, когда ей было двенадцать лет, и родители, как обычно, ушли работать, а она тихо лежала в саду, неожиданно появилась Прекрасная Жена, словно сошла с икон Богородицы, и сказала: "Раба Божия Агафия, вставай!" "И я, – вспоминала позднее матушка Агафия, – стала горько плакать и сказала, что не могу встать, но с самого рождения вот уже двенадцать лет лежу". Но Жена Та повторила: "Вставай и иди. Иди в дом!" – "Но как я могу встать?" – Вопросила Агафия. Тогда Жена взяла ее за руку и подняла, и ноги у нее в этот момент стали крепкими, словно никогда и не болели. Тогда Жена сказала ей: "Возьми постель и отнеси ее в дом. Приберись в доме, все приведи в порядок до прихода родителей. Растопи печь и приготовь для них ужин. Иди в сарай и покорми скотину. А когда все сделаешь, садись на печь и тихонько их жди. Когда родители придут и попросят тебя сесть с ними поужинать, не спускайся с печи, пусть они поедят одни. Сказав это, Она исчезла. Агафия поняла, что это была Сама Божия Матерь. Позднее матушка Агафия говорила, что Богородица сказала ей и кое-что еще, но она никогда не открывала, что именно.
Тогда она от всего сердца возблагодарила Бога и в первый раз пошла на своих окрепших ногах в дом. Прибралась, подмела пол. А когда скотина – коровы, овцы, свиньи – вернулись с пастбища, она в первый раз в жизни их ласково погладила. Загнала их в хлев, подоила коров, процедила молоко, а, приготовив ужин, выгребла золу и отнесла ее в яму, поставила ужин в печь, чтобы не остыл, а потом забралась на печь и стала ждать. Когда пришли родители, они не увидели во дворе скотину. Испугавшись, что что-то сучилось, быстро прибежали в сад – под грушей никого не было! Тогда побежали в дом и увидели, что их дочь тихонько сидит на печи. "Доченька, кто тебе помог туда забраться"? И она рассказала родителям, что произошло и как она все сделала в первый раз в своей жизни. И закончила: "Идите, ужинайте". Мать достала из печи еду, поставила на стол и стала звать дочку ужинать. Но девочка не хотела спускаться, сказав, то Жена Та не велела ей слезать с печи и ужинать с ними. Но родители заплакали и запричитали, упрашивая ее спуститься, чтобы они могли посмотреть, как она, в двенадцать лет, наконец-то пошла своими ногами. Девочка не выдержала и, спустившись с печи, села за стол. После ужина, когда она хотела встать из-за стола, вдруг почувствовала, что колени ее словно приклеились друг к другу (ноги у нее вновь были парализованы), и заплакала, вспомнив, что не выполнила наказание Божий Матери.
И до конца жизни осталась с больными ногами. Девять лет беспрерывно плакала и молилась. Целые ночи проводила в постели на коленях, плача и от боли, и от горя. Мать утешала ее, давая кусочек сахара. Тогда на какое-то время девочка переставала рыдать. Она была у них единственной дочерью. К двадцать одному году, слава Богу, начала медленно передвигаться сама, но не чувствовала ног выше колен.
Медленно передвигаясь, она все-таки двенадцать раз совершила паломничества в Киево-Печерскую лавру – больше чем в двухстах километрах от их деревни. Она уже старалась вести жизнь аскетическую и молитвенную. Жила в саду своих родителей в маленькой бревенчатой избушке в одну комнату, построенной для нее. А когда родители умерли, осталась одна и проводила жизнь в аскетических трудах и молитве. Матушка Агафия рассказывала нам, что она удостоилась еще раз видеть Богородицу, но не говорила, как и когда это произошло. У нее был дар прозорливости, и много людей приходило к ней как к Старице. Они обычно собирались у нее, чтобы вместе молиться Богу, читали псалтирь и пели акафисты. А после молитв матушка Агафия всегда наставляла Закону Божию.
После смерти родителей она взяла к себе мальчика-сироту, который помогал ей в работе по саду и в других делах. Она воспитала его, и он стал чтецом в их церкви. В молодости она сама всегда ходила на все службы, а когда состарилась, для нее сделали маленькую тележку и катали ее на этой "коляске" в храм, и в храме во время службы она сидела в ней. К ней приходило издалека много людей, и они с любовью возили ее в храм. Когда после революции это стала "Живая Церковь", она перестала там бывать.
Мальчика-сироту звали Андреем. Позднее он женился, построил дом, у него было четыре сына. А Матушка осталась жить в доме родителей, и однажды он сгорел дотла. С помощью Андрея и одного богатого мужика по имени Кирей, который жил в Столыпинском поместье, ей построили другую избу – прямо рядом с тем местом, где росла груша. Этот Кирей сделал для нее и гроб, который хранился в ее доме. Но и этот дом, вместе с гробом, тоже сгорел. Для нее построили еще один дом и сделали еще один гроб, и они тоже сгорели. Тогда Андрей взял ее к себе домой, а его сыновья ухаживали за ней.
III
В начале тридцатых годов оставалось очень мало истинных священников, так как многих из них сослали в концлагеря и посадили в тюрьмы. Те, кого не выслали, не могли удовлетворять религиозные потребности всех верующих. Были случаи, когда священники, подчинившиеся советскому правительству, во время Богослужений демонстративно срывали с себя церковные облачения, швыряли их наземь и во всеуслышание отрекались от своего сана и веры в Бога. Эти действия вызывали ужас в людях, часть из которых становилась атеистами, но другие стали искать катакомбную Церковь, которая наставляла и направляла в истинно православном духе. Пропаганда атеизма тоже совратила много людей. Если некоторые из них вернулись позднее к Богу, это было благодаря молитвам таких людей, как матушка Агафия.
Верующие, жаждавшие слова Божия, посещали матушку Агафию, прося ее совета и молитв. Она давала советы всем, кто приходил к ней с чистым сердцем, но были случаи, когда она не хотела принимать людей, и через какое-то время становилось ясно, что они впали в какой-то грех. Люди, посещавшие ее, получали указания насчет того, как вести себя по отношению к советской власти. Она часто говорила: "Деточки мои (так называла она православных), не подчиняйтесь советской власти, потому что она не от Бога. Ни под каким предлогом не вступайте в колхозы. Пусть ваше добро забирают, но сами туда не ходите, ничего не подписывайте". Запись в колхозники, которые предположительно "добровольно" записывались в колхоз на 99 лет, она рассматривала, как какую-то форму антихристовой печати (если 99 перевернуть, то получаются две цифры из "числа зверя" в Апокалипсисе 13, 18). Она говорила, что им следует избегать переписи. "Прячьтесь от переписи антихриста – ничего хорошего от этого не выйдет. Особенно она рекомендовала им избегать голосования, и почти все, кто к ней ходил, избегали и голосования, и переписи.
Среди ее многочисленных посетителей было много семейных людей, у которых были дети школьного возраста. Она говорила родителям, чтобы их дети-школьники не вступали в октябрята, пионеры, комсомольцы и так далее. Также советовала, чтобы их дети не делали прививки, которые периодически делались в школах. Это объяснялось фактом, что однажды дети, зараженные во время прививки, умерли.
Касательно советской Церкви она говорила: "Это не настоящая Церковь. Она подписалась служить антихристу. Не ходите туда. Не принимайте никаких таинств от ее слуг. Не участвуйте в молитве с ними. Придет время, когда в России откроют настоящие церкви, и восторжествует истинная православная вера. Тогда людей будут крестить так, как когда-то их крестил святой Владимир. Когда церкви откроются в первый раз, не ходите в них, потому что это будут не настоящие церкви, а когда их откроют во второй раз, тогда идите – это будут настоящие церкви.+ Я не доживу до этого времени, но многие из вас доживут. Атеистическая советская власть исчезнет, и все слуги ее погибнут". Многие ее предсказания уже исполнились, а то что она говорила отдельным людям – исполнилось все.
+ После того, как почти все церкви в России были закрыты в конце 1930-х годов, церкви "были открыты в первый раз" при Сталине.
IV
Я знала старицу Агафию с юности, когда жила с родителями в деревне Дятловка примерно в шести километрах от нее. Но в 1914 году моя семья переехала поближе к Минску, километров за 35-45 от Матушки. Тем не менее, мы, деревенские девушки, часто присоединялись к пожилым женщинам в их пеших паломничествах к ней. Много людей навещало ее, и она принимала нас всех с любовью, что вызывало в нас чувства почтения и покаяния, даже слезы. Вся атмосфера, окружавшая ее, вызывала Богобоязненный, благоговейный страх.
Ее бревенчатая избушка была небольшая, но вмещала много людей. В углу комнаты было множество икон, были большие подсвечники с горящими свечами. Постоянно горели три масляных лампады. Перед углом с иконами был аналой с псалтирью; ее читали, а часто пели.
Матушка была низенькая, вся беля, будто сделанная из воска. Глаза у нее были светло-серые и излучали свет. Она говорила очень медленно, мягко, нараспев, неспешно расхаживая при этом мелкими шажками по своему скромному жилищу. Большую часть времени она проводила за прялкой, творя при этом непрестанную молитву Иисусову. Люди приносили ей в подарок сотканный ими лен, но она отдавала его бедным и священникам на рясы. Кто бы к ней ни приходил, она всегда заставляла их пообедать или поужинать с ней, а сама ела очень мало. По понедельникам, средам и пятницам соблюдала строгий пост. Одежду носила простую, крестьянскую.
Она почти никогда не улыбалась. Любила и умела научить, и во время своих бесед часто неторопливо и торжественно осеняла себя крестом. Ее беседы были очень интереснее, обычно в форме притч, некоторые из которых оказывались предсказаниями. У нее был изумительный дар прозорливости, чему мы живые свидетели. Были также случаи настоящих чудес.
Однажды по дороге к Матушке из Дятловки я шла с группой молодых женщин, и одна из них Меланья, сказала, что Матушка, наверно, неграмотная и не умеет читать, потому что не ходила в школу, и все же она так много знает из евангелий и Библии. Когда мы пришли и немного отдохнули, Матушка, которая сидела на своей постели, сказала девушке – своей помощнице: "Мотя, достань мне книгу из сундука". Та достала ее и дала Матушке. Это была большая книга на старославянском языке. Я сидела рядом с Матушкой на ее кровати из твердых досок. Она положила книгу мне на колени и стала показывать на разные отрывки, говоря: "Они говорят, что я неграмотная, а давай-ка почитаем эту часть и эту", и она начала читать вслух.
Незадолго до ее смерти одна неграмотная деревенская женщина по имени Евгения пришла к ней и встала сзади. Матушка позвала ее и попросила почитать псалтирь. Сконфуженная женщина сказала, что не умеет читать. Но Матушка велела ей: "Бери, бери книгу. Открывай и читай". Евгения взяла книгу и, ко всеобщему изумлению, начала читать первый раз в своей жизни и так хорошо, словно делала это годами. Воистину, это было чудо.
К Матушке приходили многие священники и бездомные скитальцы, служившие в катакомбной Церкви, а также монахи из закрытых монастырей и схимники, жившие в чаще леса. Сама Матушка рассказывала о них тем, кто ее навещал. Очевидно, в ее келье совершался полный круг суточных Богослужений, что было большим утешением для лишенных Церкви. Они стекались к ней как к настоящей матери во Христе. Паломники из святых мест привозили ей освященный хлеб, который она как благословение раздавала своим духовным детям. Они привозили и воду из Святой Земли, Иерусалима и с Горы Афон, и она делилась с нами. Она велела нам в полночь зачерпывать обычной воды в ведерки и приносить ей, а сама вливала в них капли освященной воды. Так верующие, даже те, кто по тридцать лет не ходил в церковь, всегда имели святую воду. Когда, как часто бывало, приходили с обыском и видели бутылки со святой водой, то всегда думали, что там водка, и, не веря хозяевам, для проверки обязательно отпивали.
В 1935-37 годах схимник, очевидно, из закрытого Гомельского монастыря, отец Евгений, святой жизни человек, часто появлялся у Матушки ради духовного совета, а потом снова исчезал. Его искали власти. Когда в двадцатых годах появилась обновленческая "Живая Церковь", Матушка всем не советовала ходить туда, не крестить там детей и не венчаться. Когда началась позорная "коллективизация", она говорила, чтобы не вступали в колхозы, и многие из нас ее слушали и не вступали туда. В то время ее начало посещать еще больше людей, даже колхозники, она просила нас их не впускать. Потом (в конце тридцатых годов) православных священников больше не осталось: все были арестованы и высланы, а большинство их погибло.
Одна молоденькая девушка, Галка, которая часто приходила к Матушке, как-то раз вошла, как обычно. Матушка при всех сказала, что видела сон, в котором Галка падает в глубокую яму. Скоро мы узнали, что она ушла в "Живую Церковь" к обновленцам и полностью отошла от Матушки.
В другой раз к Матушке пришли три пожилые женщины, одна из них из Дятловки. Матушка им рассказала, что видела такой сон: она хочет раздать им хлеб, но его хватает только для одной, а двоим другим уже не достается. И оказалось, что эти двое тоже ходили к обновленцам.
Коллективизация отличалась абсолютно бесчеловечным обращением с ни в чем не виноватым крестьянством, которое буквально уничтожалось. Как раз перед ней, в 1937 году, был хороший урожай пшеницы. Мы сжали ее, но перед тем, как молотить, ее надо было немного подсушить. Поэтому оставили ее сушиться в амбаре, и некоторые из нас, женщин, решили тем временем навестить Матушку и принести ей немного муки. Мы заняли муку у соседки Насти и отправились в путь. Когда пришли к Матушке и стали готовить ужин, она сказала: "Нет, деточки мои, блинов мы не поедим". Мы возразили: "Мы тебе муки принесли и блинов напечем, а дома у нас пшеницы много". Но она несколько раз повторила: "Нет, нет, не поедим мы блинов, никаких блинов". Вернувшись домой, мы к великому своему горю узнали, что председатель сельсовета Блюмкин распорядился забрать всю нашу пшеницу. А чтобы расплатиться за муку, которую мы заняли у Насти, мы отработали у нее в огороде. Так что мы действительно не поели никаких блинов.
Когда на сотни километров вокруг не осталось ни одного священника, а подошла Пасха, люди обратились к Матушке с вопросом, как и где можно освятить наши куличи и другую снедь для Пасхи. Она дала следующий совет: "Идите в лес и там в полночь начинайте петь "Воскресение Твое, Христе Спасе", "Христос Воскресе" и другие пасхальные гимны, которые поются обычно хором, а куличи положите на землю и там оставьте до рассвета. А когда на них падет утренняя роса, знайте, что они уже освящены. Сам Господь их освятил!" Так верующие и делали. Несколько семей собирались вместе и проводили пасхальную ночь в лесу, потому что собираться в домах было уже опасно. Позднее даже в лесу собираться стало опасно, поэтому мы обычно выставляли горшки с пасхальной трапезой во дворе на высокое место на всю ночь на Божие благословение. И верим, что Сам Бог благословлял и еду, и нас через молитвы нашей святой матушки Агафии.
Сразу после смерти моего пятилетнего сына Евсея я пошли со своим горем к Матушке, взяв с собой горсть земли с его могилы, потому что его похоронили без священника. Когда пришла, Матушка приветствовала меня, как всегда, с радостью. О моей утрате она уже знала. Мы с ней сами пропели на упокоение души и панихиду и улеглись на ночь. Утром матушка спросила меня: "Ты видела своего сыночка?" Я ответила отрицательно. "А я, душа моя, видела его, – сказала она. – Если бы ты только знала, как он там счастлив, то попросила бы Господа забрать и других своих сыновей". Действительно, мир иной был ей близок!
Раньше, в 1922 году, когда я как-то пришла к ней, она сказала, что ее посетил святитель Феодосий Черниговский и сказал, что коммунисты хотели исследовать его мощи, но он восстал из гроба и пришел к ней. Вскоре стало известно, что его мощи после того как советские власти их открыли, были кем-то украдены, и их местонахождение с тех пор неизвестно.
V
Моя супруга видела часто Матушку, но я, хотя очень этого хотел, не имел такой возможности. Потом однажды Матушка прислала сказать, что хочет видеть нас обоих. Я боялся идти, потому что у меня не было документов (советские власти требовали специальное разрешение на любой уход с места жительства). А потом вдруг я увидел сон – две женщины в белых облачениях, блестящие белые волосы и нимбы вокруг их светлых голов. Я смог понять, что одна из них – это старица Агафия, но другую не мог узнать. Я мог только предположить, что это могла быть или ее мать, или, страшно сказать, Сама Пресвятая Богородица. Проснувшись, я решил идти и наконец повидать старицу Агафию, несмотря на опасность. И вот мы пошли, и по дороге все было хорошо. Когда пришли и вошли в ее маленький дом, я сразу ее узнал по сну, виденному мной. Но так и не узнал, кто была та, вторая в моем сне.
Ее жилище представляло собой довольно маленькую крестьянскую избу в одну комнату, стены были покрыты иконами, горели три лампады; ее кровать были из досок, покрытых домотканым половичком; было несколько аналоев и подсвечники с горящими свечами. Она встретила нас, сидя на своей кровать. Были люди, которые за ней ухаживали. Андрей еще жил там.
Я подошел к ней и склонился, чтобы принять благословение, но она не дала поцеловать свою руку, а положила мне ее на голову и стала целовать мою голову. Я не хотел, чтобы она это делала, говоря, что я грешник. Она подняла мою голову и сказала: "Почему, миленький, ты не хочешь, чтобы я поцеловала твою голову?" Очевидно, она предвидела все страдания, через которые мне предстояло пройти в ближайшем будущем и которые, действительно, начались после 1938 года, когда я был арестован.
Мы немного отдохнули, послушали ее приятную беседу, потом поужинали и вместе помолились Богу. С ней было хорошо, уютно, и хотелось плакать не от горя, а от умиления, того неописуемого чувства тепла и нежности, когда вашего сердца касается Божия благодать. Уложив нас спать на полу и попросив лечь у аналоя и икон, она сама, сидя на кровати, молилась Господу всю ночь, постоянно торжественно крестясь.
Утром, когда мы встали, помолились и позавтракали, я сказал ей, что у меня в Черниговской области в деревне М. есть сестра. Тогда она благословила нас идти к ней и сказала: "Идите спокойно, деточки мои, куда вам надо. Я буду молиться Богу о вас". И так мы "нелегально" прошли больше пятидесяти километров, повидали мою сестру и с Божией помощью благополучно вернулись домой. Больше мне не пришлось видеть старицу Агафию .
Старица Агафия часто встречалась с праведниками, жившими по всей округе. Многие были настоящими прозорливцами, как и она. То были или ее духовные дети, или ее духовные единомышленники, которым она посылала наших людей из катакомб для духовного наставления и утешения. Я любил их посещать и чувствовал свое духовное родство с ними: мы все стали противниками духу антихриста, овладевшего нашей, когда-то славной и святой, а сейчас обнищавшей и несчастной страной Россией.
Ксения – праведница из Лоева
В городке Лоев на Днепре жила святая женщина, болевшая в течение тридцати лет. Ее парализовало сразу после свадьбы. Муж ее пять лет прожил с ней, но потом не выдержал и ушел. Через какое-то время он узнал, что она стала известна как прозорливая и к ней ходит много людей, и вернулся к ней. За ней ухаживали девушки и благочестивые женщины, поскольку двигать она могла только руками, ноги ее не слушались. Матушка Агафия знала ее и посылала к ней людей, так как она могла утешить страждущее сердце.
В 1940 году я с моим другом Афанасием решили отправиться в Киев купить кое-какую одежду. Поскольку пароход до Киева останавливался в Лоеве, мы решили плыть на нем. Но когда пришли в Лоев, Днепр уже быстро замерзал, и мы побоялись, что можем застрять во льду и поэтому нашу поездку в Киев решили отложить и сходить вместо этого к прозорливой больной Ксении. Но не знали, где она живет, а уже стало темнеть.
А в это самое время она попросила приготовить еду для двоих гостей, сказав, что к ней должны прийти два путника – Тихон и Афанасий. Потом она велела своему мужу идти в определенное место на улице, где он встретит двоих молодых людей, которые ее ищут. И он нас нашел, спросил, не мы ли ищем больную и, когда мы в удивлении кивнули, отвел нас к ней. Как только мы открыли дверь, она начала петь псальм, который мы хорошо знали и любили, и мы, воодушевленные всеми этими чудесами, присоединились к ней:
"Завтра, завтра в дом Закхея
Гость таинственный придет.
И, бледнея и немея,
Перед ним Закхей падет.
Мытарь смутен, беспокоен
Вскликнул встретивши Его:
Недостоин, недостоин
Посещенья Твоего!
Гость священный, Гость небесный!
Ты так светел, так лучист!
Но сердечный дом мой тесный
И не прибран, и не чист!
Где же Гостю послужу я?
Тут и там все был порок,
Тут и там, где не гляжу я,
Вижу все себе упрек.
Чем же Гостя угощу я?
Добрых дел минувших дней,
Все ищу и не найду я,
Весь я в ранах и грехах.
Был ответ: "Не угощенья,
Не здоровых Я ищу,
Завтра к чаше исцеленья
Я болящих допущу.
Завтра собственною кровью
Благодатию Отца,
Духом мира и любовию
Весь зайду я к вам в сердца.
Хоть бы вся душа истлела
В знойном воздухе грехов,
Моего вкусивши Тела
Возродится к жизни вновь".
Как в надежде чист душою,
Будто кто-то говорит:
"Завтра, завтра Гость Закхея
И тебя ведь посетит".
О, приди же, Гость священный,
С чашей жизненной Своей:
Ждет грехами отягченный,
Новый ждет тебя Закхей!"
Потом, помолясь Богу, мы ужинали, и во время ужина читали вслух духовные книги. Потом нас определили на ночлег. Когда утром мы уходили, она сказала нам не ездить в Киев, а все купить в этом городке и спокойно вернуться к своим семьям.
Праведный Парамон – мученик
В городском поселке Брагине жил чистой жизнью шестидесятипятилетний одинокий мужчина. Родители его давно умерли, и он в их доме жил один-одинешенек много лет, проводя жизнь в постах и молитвах. Домик был небольшой и стоял на окраине, его окружал большой сад. В поселке – две церкви, и, когда они расписались в верности советской Церкви (митрополиту Сергию), он перестал в них ходить и молился дома.
Однажды в июне я посетил этот город. Я был с моим другом Афанасием – не с тем, что в прошлый раз, а с другим. Было воскресное утро, и мы шли в церковь. Подойдя ближе, увидели, что на крыше церкви вместо православного креста – красный флаг и серп с молотом. Мы пошли в другую церковь, но и она была отмечена таким же клеймом антихриста. Тогда мы решили совсем не ходить в церковь, а вместо этого навестить знакомого нам Парамона.
Он был очень рад нас видеть. Парамон был плотный, немного ниже среднего роста, с лысой головой и довольно большой бородой, еще не поседевшей. Он пригласил нас в дом, все стены которого были увешаны иконами, было много лампад, горевших перед святыми иконами. Он даже показал нам портреты Царя и новомученика Николая II. Они были спрятаны в большой кладовке, стены которой украшало много старых редких портретов. Осмотрев все, что он показал, мы вышли в сад. Он был пышный, со множеством высоких и тенистых деревьев, изобилующих плодами. Ему как-то удалось почти до конца уберечься от колхозов и всех ужасов и лишений адской советской системы, при которой все уничтожалось коммунистической властью.
Здесь, в саду, он рассказал нам о чуде, которое наблюдал в этом самом саду как раз неделю назад. Первого июня он вдруг увидел в воздухе несколько необычно больших птиц, обвитых небесно-голубыми лентами. Пока он на них смотрел, птицы стали парить над его садом. Вдруг одна из них опустилась в сад и вопросила его: "Что ты видишь, Парамон?" Окаменев, он сказал: "Не знаю". Птица молвила: "Мы летим на Восток проложить путь для Восточных Царей на Запад". И она взмыла ввысь к своей стае, полетевшей на восток. Через неделю разразилась война, а вскоре местные партизаны узнали о портретах Царя у Парамона и его образе жизни, и в этом самом саду его долго пытали, а потом убили. Он умер смертью мученика в июле 1941 года.
Новомучениче Парамоне, моли Бога о нас!
Иеросхимонах Евгений
Много удивительных людей посещали матушку Агафию – тайные пустынники из чащи леса, схимники и странствующие бездомные катакомбные священники. Одним из таких был отец Евгений, который был родом не из наших мест. Он тайно служил в нескольких селах. Люди говорили, что он человек ученый и что Бог многое открыл ему: он давал людям весьма полезные светы.
Он был высокий, очень энергичный, совсем седой. Должно быть, ему было лет восемьдесят или больше. Он ходил в подряснике, лишь иногда пряча его под рваной крестьянской одеждой. Когда появлялся этот святой старец, люди сразу об этом узнавали и шли к нему за духовной помощью.
Одна бедная деревенская девушка заболела опасной болезнью и, доверяя Богу больше, чем людям, хотела совершить доброе дело – принести в дар воск для церковных свечей. И дала такой обет, но не могла ничего найти, кроме нескольких метров льна для полотенец. Она принесла это Старцу, который, конечно, ничего не знал о ее обете. Когда она пришла к нему, то увидела, что в избе, где он остановился, сидят и терпеливо ждут множество людей. Как только она переступила порог, прозорливый Старец повернулся к ней и спросил: "Принесла мне, что обещала?" Расстроенная, она сказала, что у нее только ткань, а воск она не смогла найти. Улыбаясь, он принял ее дар и сказал: "Ты достанешь воск как-нибудь в другой раз".
Однажды он остановился на две или три недели в деревне на берегу Днепра у крестьянина Акима. Бог открыл ему, что местный сельсовет собирался отобрать у этого человека все сено, тулуп, лошадь со всей упряжью и другое. И отец Евгений надел этот тулуп, сказав, что он ему очень хорошо подходит и что в нем хорошо бы навестить матушку Агафию. Походив в нем немного по дому, он снял тулуп и повесил его обратно на стену. А то жена крестьянина уже испугалась, что он не вернет его. Тем временем Аким запряг лошадь, чтобы ехать к матушке Агафии. Отец Евгений вышел и сказав: "Да, поедем сейчас", сел в повозку и, показав на стог сена, добавил: "Продай все это сено и выпей. Нам оно не потребуется". Но Аким сказал: "Что ты говоришь, Батюшка, на что мы будем жить? У нас ничего не будет!" Строго и печально посмотрев на него, отец Евгений произнес: "Именно так мы и будем жить – ничего не имея!" Аким правил, ничего не понимая. Они навестили Матушку и вернулись обратно. В тот самый момент, когда они въехали во двор, появился председатель сельсовета. Он забрал и тулуп, и сено, и лошадь с упряжью. Так исполнились все предсказания отца Евгения. Потом бедная крестьянская жена горько жалела, что они не отдали ему тулуп.
Однажды моя жена пошла с несколькими женщинами повидать матушку Агафию, чтобы послушать ее духовные наставления и помолиться вместе с ней. Идти им надо было больше сорока километров. Когда пришли, после обычных приветствий Матушка повернулась к моей жене и озабоченно сказала: "Чадо мое, иди обратно, поторопись. Тебе нужно быть дома". Жена хорошо знала, что она прозорливая, и поэтому поторопилась домой. Едва вола в дом, как явились сотрудники НКВД арестовывать меня. Благодаря Матушке Агафье мы успели попрощаться.
VI
Все это время советские власти хотели арестовать матушку Агафию, но боялись, зная, что она прозорливая. Когда она жила у Андрея, они арестовали его жену Мотю (Матрену). Потом одна вдова, жившая со своей четырнадцатилетней дочерью в поселке Мохове, взяла ее к себе, и советы арестовали и эту вдову. Тогда Андрей забрал ее обратно, и за ней стали ухаживать его сыновья. Потом арестовали и выслали Андрея со всей его семьей. После этого дважды приходили арестовывать ее, но не могли.
Матушка Агафия больше чем за год вперед предсказала свою смерть; она говорила нам об этом и была готова к ней. Для погребения она приготовила одежду всю ярко-зеленого цвета. Говорила нам, что ее заморят голодом до смерти. Мы говорили, что ни при каких условиях этого не допустим, но она отвечала: "Деточки мои, вам не разрешат приходить ко мне. Поставят вооруженную охрану – и я умру". И все произошло так, как она говорила.
То, что она говорила верующим о советской власти, то же самое она говорила и коммунистам. Она не боялась и называла их "безбожниками – слугами сатаны". Когда в НКВД сообщили, что старуха по имени Агафья учит людей не подчиняться Советам, называя советскую власть безбожной и говоря, что она от антихриста, то четырех молодых энкаведешников послали арестовать ее и доставить в Гомель. Когда они пришли к ней домой, их охватил ужасный страх, и они побоялись ее трогать. Один говорил другому: "Забирай ее", а другой отвечал: "Нет, ты забирай", а потом сказал: "Я боюсь ее трогать, она у меня к рукам приклеится". Он говорил так, потому что было известно, что у нее ноги "склеены вместе", и они считали ее какой-то ведьмой. Ей тогда было 119 лет. И так они ничего не смогли с ней сделать.
Тогда пришел приказ уморить ее голодом. В феврале 1939 года вооруженные охранники окружили ее бедное жилище, и никому не разрешалось даже подходить близко. Охранники были там все время – день и ночь, их регулярно меняли. Прошло две-три недели.
Верующие приходили, смотрели на дорогую их сердцам избушку на холме, знали, что там умирает без помощи Божия святая, помогшая стольким людям, и ничего не могли сделать, чтобы ей помочь. Стражникам велено было стрелять, если потребуется.
Потом донесся печальный крик, как похоронный звон: "Идите хоронить Агапку", ее не стало. Священника не было. Местные жители похоронили ее на сельском кладбище. Когда хоронили, мы там не были, приходить было опасно. Мы, ее духовные дети, собрались в деревне Бурицкой в шестидесяти с лишним километрах оттуда и всю ночь, не выходя из дома, читали отпевание и пели панихиду, поскольку найти священника было совершенно невозможно. Мы, женщины и девушки, разделили между собой всю псалтирь, по одной кафизме, так что чтение продолжалось сорок дней. И так мы молились о ней Богу не только сорок дней, а весь год. Мы не забываем нашу дорогую Матушку, которая спасала нас и питала духовной пищей во время ужасного голода.
Святая мати Агафие, моли Бога о нас!
Тихон и Фекла Т.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: История.
 Иван Бунин
Иван Бунин
Вот от этой-то мечтательной турчанки и родился Андре Шенье, говорит Ленотр. Когда ему сравнялось три года, родители его переселились в Париж. И он привез сюда с собой, в своем младенческом сердце, унаследованную от матери жажду прекрасного и ту страстность, что создают поэты, а мать - свои наконец-то готовые осуществиться мечты. Действительность, однако, оказалась и для него, и для нее очень жестокой.
Низкое небо, грязная мостовая, дома с обсыпавшейся штукатуркой, серая трудовая толпа, мелочность нравов, ничтожность черни, спесь знати - таким представился г-же Шенье Париж. Двор, который она могла видеть только издали, показался ей только скучным гнездом интриг и честолюбий. А к этим разочарованиям присоединились денежные и хозяйственные заботы. Средства семьи были скудны, г. Шенье долго и понапрасну искал места. Наконец, ему предложили отправиться в качестве консула в Марокко. Он уехал и пробыл в отсутствии целых семнадцать лет. Когда же вернулся, был уже канун революции. И вся семья оказалась настроена весьма революционно.
Г-жа Шенье, с трудом воспитавшая пятерых детей, была ожесточена против общества, находила его отвратительным, ибо не смогла при всех своих достоинствах и гордом сознании их, занять в нем положение. Не имея возможности выделиться при дворе, она замкнулась в кружке из нескольких остроумцев, скептиков и фрондеров, партизанов новых идей. Таких было тогда много. Они в сущности вовсе не желали разрушения старого мира, говорит Ленотр; но им очень нравилось критиковать его и легкомысленно желать победы утопистам. Эти любители туманного будущего и новшеств назывались в то время философами; они заигрывали с утопистами, как буржуа наших дней заигрывают с социализмом, забывая об ужасном пожаре, который, играя огнем, произвели наши предки сто лет тому назад. И вот к ним-то и тянулась г-жа Шенье.
Да тянулись и прочие члены семьи. А когда, наконец, революция разразилась, открыто стали на ее сторону.
Брат Андре Шенье, Мари Жозеф, писал напыщенные трагедии, подписывался «шевалье де Шенье», письма свои запечатывал печатью с гербом и графской короной и раболепствовал, чтобы сыграли при Дворе его «Аземира». Отец бегал и унижался перед сильными и знатными, стараясь получить пенсию. Когда же революция разразилась, сын и отец немедленно вспомнили каждый свое, - сын то, что его «Аземир» был освистан, а отец скудость пенсии, - и превратились в ярых демагогов. Мари Жозеф особенно отличился, - написал новую пьесу, настолько революционную, что она, по отзыву К. Демулена, «двинула дела гораздо быстрее октябрьских дней». И вышло таким образом, что судьба дала Андре Шенье видеть не только общую низость, которой поразила его революция, но и частную, в своей родной семье.
Андре долго жил в Лондоне, совсем не интересуясь политикой и предаваясь только развлечениям, которых требовала его сильная и горячая натура. Но в 1790 году он возвратился во Францию и попал в вихрь всеобщего энтузиазма. Туг, не за страх, а за совесть, он на время страстно поверил «в обновление человечества, достойное благ Свободы и подчиненное всемогуществу Разума».
Однако время это длилось не долго: он был для революции слишком умен, зряч и благороден. Он быстро отличил в толпе, кинувшейся на добычу, наивных глупцов от убийц по найму и по инстинкту, и тотчас же принял участие в контрреволюционной борьбе с тем пылом, который называли даже «кровожадным» и который, конечно, состоял только в благородной ненависти к подлой кровожадности революционеров. Его душа, полная любви ко всему высокому, прекрасному и чистому, была потрясена зрелищем торжествующего мошенничества и зверства, попрания всех святынь и традиций, видом всей той циничной лжи, пошлости, грязи и тирании, которыми отличаются все «взрывы народного гнева», и он не мог не восстать на революцию, а восстав не мог не погибнуть. И гибель эта была ужасна.
В начале 1794 г. он скрылся в Версаль. Скрылся не из страха, а просто потому, что слишком устал от революционной мерзости. Измученный, он отдыхал здесь среди мраморных богов, полуразрушенных портиков, огромных водоемов, где отражалось небо, лесных аллей и чащей. Сарду всего тридцать лет тому назад записал рассказ одного старика, который часто видел Шенье в ту пору: это был, по словам старика, маленький, коренастый, смуглый человек с горящими глазами, квадратным лицом и огромной головой.
В первых числах марта Шенье тайно сообщили о предстоящем аресте его друга Пасторета. Он немедленно кинулся в Пасси, где Пасторет скрывался в доме родителей своей жены. Пренебрегая опасностью, он прошел Сен-Клу, Булонский лес и вечером, в темноте, вошел в Пасси, надеясь через несколько минут увидеть Пасторета и увести его в Версаль. Но было уже поздно: Пасторет был уже арестован, Шенье застал только его жену, в слезах и отчаянии. Он начал ее утешать, ободрять, торопить бежать. Но вдруг - стук в дверь:
- Именем нации!
И через мгновение в дом ввалилась ватага «членов революционного Комитета Пасси». И началось все то, что так страшно знакомо нам, свидетелям «великой российской революции».
Что это были за люди, спрашивает Ленотр, и какой историк достойно опишет, наконец, их, громкие деяния?
Все, что было мало-мальски честного в стране, уже давно прокляло «великую французскую революцию», старалось бежать от нее, терпеть ее молча, жить в самом незаметном и скромном труде. Все отказывались от чести заседать в этих революционных комитетах, обязанность которых заключалась в шпионстве, доносах, арестах. Каким же людям были по вкусу эти обязанности! И тем не менее во Франции насчитывалось в то время более двадцати тысяч таких комитетов! Это ли не позор, не растление страны!
Для ареста Шенье, говорит Ленотр, не было никакого предписания, никаких указаний свыше. Но эти скоты были одарены каким-то животным инстинктом. Они верно учуяли аристократа в незнакомце, случайно ими встреченном. Они угадали, что в руках у них благородное и гордое сердце, хорошая добыча для эшафота, - угадали, несмотря на то, что все были пьяны, пьяны настолько, что глупость их превзошла все границы. Протокол допроса, составленный ими, состоял из такого нелепого набора фраз и был так чудовищно безграмотен, что Шенье отказался подписать его...
Посадили Шенье в тюрьму Сен-Лазар, старое, грязного цвета здание за тремя железными решетками, похожее на гигантскую вонючую клетку для диких зверей, набитое сверху донизу узниками, которые вечно стонали и выли, чувствуя себя стадом, согнанным на двор бойни. И как только его посадили, он решил умереть:
- Приди, приди, о смерть, освободи меня, - пишет он, войдя в тюрьму.
Но могло ли его страстное сердце принять столь скорую и безмолвную смерть?
- Как? Умереть, не плюнув в лицо террору? Умереть, не узнав, не осмеяв, не повергнув в грязь палачей и словоблудов? Не оставив ничего, чтобы могло умилостивить историю за всю тьму убиенных?
И Шенье остался жить, ждать казни, чтобы писать и проклинать. «И слава ему - говорит Ленотр, - слава поэту, выразившему возмущенную душу изнасилованной Франции, кинувшему из темницы анафему тем, кто обесчестил ее!» Прекрасные слова. Только одну ли Францию обесчестила ее «великая революция»? Не всю ли Европу, не все ли культурное человечество?
Казни шли непрерывно, изо дня в день. И поэтому Шенье не скоро дождался своей очереди, - его казнили только в первых числах Термидора. Родные его оставались сторонниками революции, - брат был даже в среде наиболее могущественных вожаков, - и то ли поэтому, то ли по беспечности надеялись, что его просто «забудут» в тюрьме. В ужасе был один старик отец, который неустанно бегал по «комитетам», моля о снисхождении к сыну. В первых числах Термидора он дошел до самого Барера и долго заклинал его, плакал перед ним. - «Прекрасно, - сказал наконец Барер, утомясь этой сценой, - твой сын будет через три дня свободен».
И точно, ровно через три дня, когда старик сидел в своей квартире, полный надежд на близкую встречу с сыном, в передней раздался звонок. Обезумев от радости, - уж не Андре ли это? - он кинулся к двери, распахнул ее - и увидел Мари Жозефа: тот был так бледен, лицо его было так страшно и многозначительно, что никаких сомнений больше не оставалось...
В самом деле, как раз в этот самый час Андре Шенье обрел полную свободу: в этот час телега с двадцатью пятью обезглавленными трупами, среди которых был и труп Андре, покинула площадь, где совершались казни, и направилась за Париж, к одной заброшенной каменоломне. В эту каменоломню уже шесть недель подряд, изо дня в день, валили казненных, и возле нее с утра до вечера предавались своему отвратному занятию некие люди, которые снимали с трупов окровавленную одежду и швыряли их затем в братскую могилу.
Так же, конечно, поступили эти люди и с одним из самых великих поэтов Франции, посмевшим «не принять революции», не преклониться перед ее идолом.
Одесса, лето 1919 г.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Статьи.
 Священноисповедник Василий (Преображенский), епископ Кинешемский
Священноисповедник Василий (Преображенский), епископ КинешемскийАвтор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.
 В течение пяти лет, и по настоящее время, монастырь Св. Григория Паламы, монастырь Св. Елисаветы Великой Княгини и православные миряне маленького прихода Свв. Киприана и Иустины в Этна (Калифорния, ИПЦ Греции) два раза в неделю кормят пожилых людей, в т.ч. и неправославных.
В течение пяти лет, и по настоящее время, монастырь Св. Григория Паламы, монастырь Св. Елисаветы Великой Княгини и православные миряне маленького прихода Свв. Киприана и Иустины в Этна (Калифорния, ИПЦ Греции) два раза в неделю кормят пожилых людей, в т.ч. и неправославных.
В рамках этого мероприятия, в крошечной деревне Этна, население которой меньше, чем семь сотен человек, в этом году монахи, монахини и православные миряне подготовили трапезу, чтобы помочь двадцати двум гостям отпраздновать западный праздник Рождества. Те, кто были в состоянии прийти, были приглашены в Свято-Фотиевскую православную духовную семинарию в Этна (которая строится). Пища была доставлена на дом тем, кто не смог присутствовать из-за немощи или снега и мороза.
Все участники получили традиционный рождественский обед из ветчины, индейки, фарша, пюре и соуса, клюквенного сока, тыквенного пирога, фруктов, яичного коктейля, кофе и чая. Певчие хора из монастыря Св. Елисаветы пели западные колядки и рождественские гимны Православного праздника Рождества Христова, как на греческом, так и на славянском языках, для тех, кто присутствовал в здании семинарии.
Гости оценили гостеприимство и еду, а также отметили, что хоть православные монахи и миряне, которые прислуживали им, и не смогли присоединиться к их трапезе, однако своим присутствием оказали гостям большую честь. Это было особенно приятно для открытия семинарии, т.к. такое гостеприимство и милосердие явилось данью уважения святому покровителю семинарии - св. Фотию, который был не только блестящим богословом, но и глубоко духовным человеком с мягким характером.
Ниже мы видим несколько фотографий из собрания, вместе с двумя снимками почти готового семинарского здания, полностью отремонтированного бывшего государственного учебного заведения.
Автор: Интернет Собор. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

По поводу трагедии в Дудачкино, где бывший муж расстрелял бывшую жену и ее, якобы, любовника, прихожан прихода РПЦЗ (А).
Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: История.
 11. Шахты, 16 с/п, кр[асноармей]цу Юрченко
11. Шахты, 16 с/п, кр[асноармей]цу Юрченко
«…Людей много мрет у нас с голоду, суток по 5 лежат, хоронить некому, люди голодные, ямы не выкапывают, очень мерзлая земля, хоронят в сараях и в садах. Люди страшные, лица ужасные, глаза маленькие, а перед смертью опухоль спадает, становится желтой, заберется к кому-либо в дом и ложится умирать. Молодые девчата ходят просят кусочек кабака или огурца. Не знаем, что будет с нами, голодная смерть ждет…» Ст. Ново-Деревянковская, СКК — от родителей.
12. В Красную Армию
«…Жизнь у нас настала невыносимая, после твоего отъезда уже было 10 случаев самоубийств и только на почве голода. 14-го в 12 часов дня человек бросился прямо под трамвай, которым разорвало на куски. В городе усилились грабежи, среди бела дня снимают одежду прямо на улице днем, каждый спасает свою жизнь, ища кусок хлеба. Ведь тут у нас голод хуже, чем был в 21 году…» Таганрог.
13. Новочеркасск, ККУКС, Ермоленко
«…Есть у нас нечего. Человек 400 пухлые и мрут каждый день по 24 человека. Мы, наверное, не выживем, отец и тетка лежат пухлые. Ты, уже писали тебе, хлопочи за нас…» Константиновское, Армавирского района — от сестры.
14. В Красную Армию
«…У нас в Михайловке половина народа пухлого, не евши. В коммуне много народа уже умерло. В коммуне «Красное знамя» 4 января умерло восемьсот маленьких ребят. Кормили макухой. Как посмотришь, что делается, так душа мрет…» Ст. Михайловская Армавирского района.
15. Новочеркасск, полк связи, Росяку АД.
«…Жизнь наша очень горькая, хуже и не может быть. Народ совершенно без хлеба, есть такие люди, что вешаются, детей много, а есть нечего, так они и вешаются…» [Ст.] Канеловская, СКК,
16. Шахты, с/п кр[асноармей]цу Акименко
«…Дети наши начинают пухнуть с голоду, у дочери уже лицо и ноги стали пухнуть. Я тоже брюзглая на лицо, придется умирать с голоду. Спаси меня и детей своих, возьми меня туда, не дай погибнуть с голоду. У меня картошку и кукурузу забрали, а хлеба не дали. С хутора все разбежались учителя, служащие, кто куда попал, все управители от голода убежали, потому что в хуторе хлеба нет, в район поехали, там, говорят, на местах ищите, а на местах нет ни фунта…» Союз 5-ти хуторов Армавирского района СКК — от жены.
18. Ставрополь, п/я 75, С.Г. Бойко
«…Хлеба нет, не давали, люди мрут от голода. Снабжение очень плохое, люди пухнут и умирают по 15 человек в день. Кооперация не торгует, спичек и керосину нет. Поехать купить нельзя, из станицы никуда не пускают, стоят везде посты, так что жизнь очень и очень плохая…» СКК — от товарища.
19. Новочеркасск, ККУКС, Барниченко Л.М.
«…Мы уже пухнем с голода. В день по 10 гробов выносят, умирают с голоду…» Подгорная, СКК — от жены.
20. Ставрополь н/К, п/я 75, Г.Г. Тумиленко
«…Очень много мрут людей, в каждой хате по двое и трое мертвых лежат, и никто не хочет ховать, мрут от голода, хлеба нет, а так бураки, тыквы — все уже поели, дальше людям жить нечем…» СКК — от родителей.
21. В Красную Армию, Ейск, Шелковому
«…На хуторе весь народ голодный, пухлый от голоду, на работу гонят, а в Каневской народ умирает сотнями каждый день. Вот какая новость в Советской стране. Как мы должны жить дальше? Интересно, кого вы защищаете и кому служите, что народ гибнет напрасно, и за что мы будем скоро помирать? Ты служишь, а на нас сейчас извещение на 13 пуд. пшеницы, 8 пуд. ячменя и 30 кг кукурузы, но где брать?…» Ст. Придорожная, совхоз-4, Шелковый.
22. Химкурсы, Барадулину
«…Большое горе у меня и печаль. Приходится бросать учение через то, что нечего есть. Вот уже ровно два месяца, как у нас кончился хлеб. Забыли, какой он есть. Картошка тоже вся вышла, ну а от капусты да от воды голова не работает. Мама день работает, а неделю в постели лежит, придется нам пухнуть. ГПУ до сих пор сидит в станице, и не только никому не разрешают никуда выехать, а даже по улицам ходить не разрешают. Народу арестованного сидит очень много — 1248 чел. Многие пухнут, многие умирают с голоду. Ходили мы со справками несколько раз в сельсовет, но нам сказали: «Пусть вас колхоз обеспечивает». В колхозе Жеребенко ответил: «Не знаю, что делать, не то вас посадить, не то самому садиться», — и направил нас к буху, ну а тот и вовсе говорит, что нет такого распоряжения и фонда, чтобы нас обеспечивать. Теперь не знаю, куда идти, вот как нас здесь снабжают и помогают. Жаль, что маме на старости лет такая жизнь выпала, а мне на мою юность такая доля досталась, что даже учиться бросила…» Ст. Незамаевская Павловского района СКК — от сестры.
23. Гор. Орджоникидзе, артполк 28-й, 7-я бат[арея], И.Т. Жукову
«…Мама лежит больная, опухла с голоду, я тоже еле хожу, аж страш
но глядеть. Хожу на работу перебирать табак, получаю макухи 100 г, а
она свирепая и горькая, и той уже нет. Как у тебя видели хлеб, и вот с
тех пор его не видим. На базаре кроме бураков нет ничего, и то стоит
3 рубля штука. Сварим бурак, похлебаем и до следующего дня. Мама все
время лежит больная, опухла и все плачет. Мама обращается к тебе, как
к сыну, не дай погибнуть старой матери, сдохнуть с голоду. Мне толь
ко — молодой, жить надо, а я сдыхаю с голода, как собака, пришли нам
хоть макухи или сухариков, хоть ожить немного. Если бы ты знал, сколь
ко у нас мрут с голоду, так не пересчитаешь, на кладбищах не хоронят,
ибо негде, хоронят в огородах и в колодезях. Помоги нам, как отка
жешь — мы погибли, и тебе не жаль той матери, которая тебя воспитыва
ла, поспеши поскорей. Ждем — рты поразевали…» Ст. Половическая, Ку
банский округ СКК — от брата и матери.
24. [В Красную Армию]
«Мы находимся на краю гибели, на краю голодной смерти. Живем три месяца без хлеба, питаемся картошкой, гарбузом, буряками, капустой и другим, ни кукурузы, ни пшеницы мы не видим. Как прожить до нового урожая, как спастись от голода, нет выхода. На работу нас не пускают никуда, уехать из станицы нельзя, везде посты, мы погибли, нас голод положит в могилу. Больше писать не буду, а напишу тогда, когда будем умирать. В нашей станице весь хлеб забрали под метелку. Много сейчас поумирало с голода народу, не просто народ, а народ трудящийся, народ — колхозники…»
26. Грозный, п/я № 3, Б.И. Жевакову
«…Уже два месяца, как не видим ни кусочка хлеба. Пока арбузы были, жили ими, а теперь они вышли. Пошла я на мельницу, насилу получила пыли и вот ее едим. Витя лежит пухлый, глазами ничего не видит и [не] перестает кричать: «Мама, дай хлеба!» У Саши стали пухнуть ноги, перестал ходить. Как мне хочется съесть кусочек хлеба, не могу тебе передать, страшный голод, люди уже едят дохлых лошадей и лежат много пухлых и много помирают…» Ст. Степная [За]ку-банского района СКК, А.В. Скрипачева.
30. Кр[асноармей]цу 88 к/п, химкурсы, Берцюку
«…Хлеба мне из колхоза не дают. Сижу не евши. Вот как-то пошла на станцию, да принесла себе ячменных озадков и пеку с них лепешки, но они горькие, как хина. Стану их давать Тоне, а она кричит, бросает их на пол: «Ты мне, мама, хлеба дай!», — у меня сердце разрывается, лучше бы она умерла, чем так мучиться, да и мне лучше отравиться, чем так жить…» Н.-Александровская — от жены.
36. В Красную Армию
«…У нас полный человеческий ужас, подошла полная гибель кулакам и белогвардейцам, и эта гибель переходит на трудящиеся массы, на колхозников. Каждый день хоронят по 8—9 человек и, наверное, скоро нас похоронят. В нашем колхозе пало 10 лошадей, которыми питались колхозники, и питаются сейчас, они их понасолили в кадушках и хранят, как золото, мы еще не ели дохлых лошадей, у нас нет ее засоленной, нам нечем питаться будет, как поедим картофель, тогда будем умирать с голоду…» СКК.
37. Каменск, СКК, рота связи, Головачеву Д.И.
«…Плохо, хлеба нет, еще месяц проживем. В колхозе жизни нет, народ ест что попало, лошадей сапных убивают, зарывают, а народ достает и нарасхват тянут и едят, так что не смотрят, что она заразная…» СКК.
39. В Красную Армию
«…Возьми меня к себе, ибо я погибаю с голоду, хлеба совершенно не вижу, народ весь пухлый, у всех глаза отекли, страшно смотреть. Народ покупает полудохлых лошадей, режут и кушают, пришел нам всем конец. Сжалься, возьми меня к себе, я не выживу, кушать нечего, сплошной ужас…» Армавир, СКК.
46. Шахты, 16-й с/п, кр[асноармей]цу Семенечкову
«…Голод неимоверный, такую голодовку нельзя никак перенести, люди собак едят, падают люди от голода, как мухи, не управляются хоронить. Тот горох, что получила, записали, должны на днях забрать, а я остаюсь совсем без куска хлеба…» Ст. Новоминская, СКК — от матери.
49. Ростов н/Д, 9-й артполк, СП. Бережнову
«…Кукурузу нам из сельсовета не отдали, и председатель сказал, чтобы и не ходили, все равно не отдадут. А жить не знаю как, что делать, куда подаваться, кто может нам помочь. У нас сейчас большинство народу голодного, некоторые уже пухлые лежат, едят дохлятину. В колхозе дохнут лошади, свиньи и куры, а вслед их едят все…» Хут. Безводный, СКК — от брата.
51. Ростов н/Д, пункт ПВО, Горохову В.П.
«…По Саратову сильное воровство днем и ночью — коров, лошадей, свиней со двора уводят и режут. Погреба у всех разломаны, все это заставляет голод, решаются люди на все. Народ по округу пухнет с голоду, смертность усиливается, в колхозах едят дохлых лошадей. Здесь еще не выплачен налог и свободная торговля запрещена. Жалованья у нас за декабрь и январь не дают во всем городе…» Саратов, отец Кутырев.
54. Ставрополь, п/я 75, В.И. Рябуха
«…В колхозе не давали ничего и не дадут, потому что и в колхозе нет ничего. Одна надежда на корову, но, наверное, отнимут и ее, потому что приказано найти посевной фонд на местах и этот фонд доведут до двора, а в дворах нету — не то что зерна, а и бурака. Если бы ты видел, что у нас сейчас делается… Люди сейчас полоумные, а работать заставляют, за невыход на работу выкидывают из колхоза и сажают в тюрьму, и забирают все мертвое и живое. А что делают в тюрьме — расстреливают и от голода умирают. Если тебе дают кусок хлеба, то служи, а в колхоз не ходи, потому что в колхозах жизни нет, все равно умрем голодной смертью…» Белковская, СКК — от родных.
55. Ставрополь, 22-й артполк, А.П. Донцову
«…Ты, наверное, живешь хорошо, а мы сейчас переживаем большой голод. Уже 35 дней не видим хлеба. Едим, что попало — ворон, грачей и конину. Народ уже начинает пухнуть с голоду. Лошадь — как сдохнет, то на захватки берут, не считают, что она сапная. Голод заставит все есть. У нас все зерно забрали и не только у нас, а у всех забрали все, что было из продуктов. И мы теперь несем большой голод…» Хут. Хлебодаров, СКК — от родных.
Сообщения о случаях людоедства на почве голода
56. Ростов н/Д, НКВМ, 27-я школа авиапарка, Черникову «…Приехал из Армавира потому, что хлеба нет, там с голоду помира ют. Там поймали 80 душ, которые резали людей и начиняли пирожки, а потом продавали на базаре…» Гор. Таганрог.
58. [В Красную Армию]
«…У нас граждане живут так, что едят кошек и собак, даже крыс. Смеяться с моего письма нечего, в Поповичевке нашли такую семью, что людей нашли вареных, приготовленных для кушанья…» СКК — от брата.
59. Ставрополь, п/я 75, Е.В. Давиденко
«…Везде идут сильные сокращения. Люди живут плохо, наступила настоящая голодовка. Люди людей едят, это прямо недопустимо. А умирают так каждый день. Ям не копают, а хоронят прямо так наверху и потом еще по дворам. Так они жарят, да едят. Это я пишу тебе совершенную правду. Эти люди сейчас сидят в карцере…» Поповическая, СКК — от сестры.
60. Ст. Староминская, СКК, Вокзальная № 1, Л.И. Костенко
«…Мы, наверное, скоро опухнем от голода. У нас новости такие» что уже люди людей едят. 18-го числа утром я пошла за хлебом, смотрю, а люди бегут на Николаевский переулок, там обнаружили руки и ноги осмоленные. Привели туда собак-ищеек и разогнали народ, и я, конечно, последствия не знаю, а только вот вчера на базаре забрали женщину с колбасами, которые начинены людским мясом, это я сама видела, красивые, желтые на вид, а на вкус не знаю…» Ростов н/Д, отд. рота связи — от дочери.
Нач. 2 отд. оперода ПП ОГПУ СКК Чечельницкий ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 11. Д. 56. Л. 51—64. Подлинник.
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.
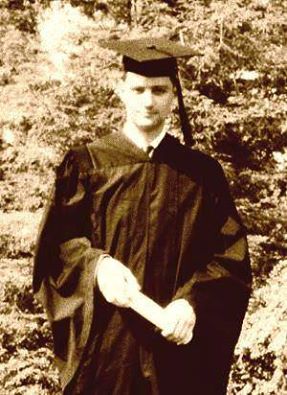 14 іюня 1961 г.
14 іюня 1961 г.
День жаркій – для Сан-Франциско прямо разгаръ лѣта. Я, наконецъ, закончилъ свою диссертацію и сдалъ ее в прошлую пятницу, но по какой-то причинѣ они не собираются до сентября присуждать степени. Въ настоящее время я все еще занимаюсь китайскими дѣлами, помогаю моему бывшему профессору по китайскому языку переводить статью (съ китайскаго) о китайской философіи для одного философскаго журнала. Лицемѣріе академическаго міра нигдѣ такъ явно не проявляется, какъ въ его случаѣ. Онъ знаетъ о китайской философіи, навѣрно, больше всѣхъ въ нашей странѣ и занимался въ Китаѣ съ настоящими китайскими философами и мудрецами, но здѣсь не можетъ получить работу ни въ одномъ колледжѣ, потому что не получилъ степень въ американскомъ колледжѣ и потому, что онъ не пустой болтунъ, короче, онъ слишкомъ честенъ.
Это вѣрно, что я прежде выбралъ жизнь въ наукѣ, поскольку Господь, чтобы я служилъ Ему, далъ мнѣ разумъ, а научный міръ – это то мѣсто, гдѣ, какъ предполагается, и слѣдуетъ использовать разумъ. Но, проведя здѣсь восемь или девять лѣтъ, я достаточно хорошо знаю, что происходитъ въ университетахъ. Разумъ уважается только нѣсколькими "старомодными" профессорами, которые скоро всѣ вымрутъ. Для остальныхъ же это просто средство дѣлать деньги, удобно устроиться въ жизни, и разумъ свой они используютъ, какъ какую-то игрушку, дѣлая съ нимъ умные трюки и получая за это оплату, подобно клоунамъ въ циркѣ. У современныхъ людей исчезла любовь къ Истинѣ; тѣ, у кого есть мозги, должны продавать свои таланты, чтобы существовать. Для меня это трудно, потому что я слишкомъ люблю Истину. Для меня академическій міръ – это просто работа, но я не собираюсь становиться ея рабомъ. Въ академическомъ мірѣ я не служу Господу, а просто зарабатываю себѣ на жизнь. Если я собираюсь служить Богу въ этомъ мірѣ и, такимъ образомъ, сдѣлать въ своей жизни что-то стоящее, то долженъ буду дѣлать это за предѣлами академическаго круга. Я скопилъ немного денегъ, и мнѣ обѣщаютъ еще кое-какую сумму за одну небольшую работу, такъ что смогу скромно прожить въ теченіе года, дѣлая то, что подсказываетъ мнѣ совѣсть: хочу написать книгу о духовномъ состояніи современнаго человѣка, о чемъ, Божіей милостью, имѣю кое-какіе знанія. Возможно, книга не будетъ продаваться, такъ какъ люди не задумываются о томъ, о чемъ я собираюсь говорить, они предпочитаютъ дѣлать деньги, а не чтить Господа.
Вѣрно, что это запутавшееся поколѣніе. Единственный непорядокъ со мной – это то, что я не запутался, но очень хорошо знаю, въ чемъ состоитъ долгъ человѣка – чтить Бога и Сына Его и готовиться къ жизни въ грядущемъ мірѣ, не устраивать себѣ счастливую и комфортную жизнь въ этомъ мірѣ за счетъ другихъ, забывая о Господѣ и Царствіи Его.
Знаете ли Вы, что случилось бы съ Христомъ, если бы Онъ сегодня пришелъ въ нашъ міръ? Его бы помѣстили въ клинику для душевнобольныхъ и назначили лѣченіе, и то же самое было бы съ Его святыми. Міръ распялъ бы Его точно такъ же, какъ онъ сдѣлалъ это двѣ тысячи лѣтъ назадъ, потому что міръ ничему не научился, только болѣе изощреннымъ формамъ лицемѣрія. А что произошло бы, если бы я въ одной изъ своихъ университетскихъ группъ однажды сказалъ бы студентамъ, что не имѣетъ значенія никакая ученость въ этомъ мірѣ, кромѣ обязанности чтить Господа, принять Богочеловѣка, который умеръ за наши грѣхи, и приготовиться къ жизни въ грядущемъ мірѣ? Они, навѣрное, посмѣялись бы надо мной, а университетскіе чиновники, узнай они объ этомъ, уволили бы меня съ работы, такъ какъ проповѣдовать Истину въ нашихъ университетахъ противозаконно. Мы говоримъ, что живемъ въ христіанскомъ обществѣ, но это не такъ – мы живемъ въ обществѣ...
(дальнѣйшій текстъ не сохранился – ред.)
Понедѣльникъ, 15 іюля 1963 г.
Я получилъ твое письмо въ пятницу, вернувшись изъ церкви, гдѣ принялъ Святое Причастіе. Итакъ, оказывается, за эти нѣсколько лѣтъ наши роли помѣнялись: я, бывшій нѣкогда въ поискѣ, обрѣлъ искомое, а ты вновь ищешь. Но на все это Божія воля.
Очень радъ снова получить отъ тебя вѣсточку, и значеніе твоего письма мнѣ абсолютно ясно. Я всегда молился за тебя и часто думалъ о тебѣ, и совершенно вѣрно, что въ послѣдніе мѣсяцъ или два ты мнѣ особенно часто вспоминалась.
Когда писалъ тебѣ въ послѣдній разъ, я былъ очень близокъ къ Русской Православной Церкви, но все еще не до конца рѣшилъ, и, хотя я отрекся отъ худшихъ своихъ грѣховъ, все же продолжалъ по большей части жить такъ, какъ живутъ въ міру. Но потомъ Богъ указалъ мой путь мнѣ, недостойному. Я познакомился съ группой ревностныхъ православныхъ русскихъ и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (что особенно примѣчательно, въ Недѣлю блуднаго сына, какъ разъ передъ началомъ поста) былъ принятъ въ лоно Русской Православной Церкви въ изгнаніи, и съ тѣхъ поръ на протяженіи полутора лѣтъ являюсь ея вѣрнымъ чадомъ. Я возродился о Господѣ нашемъ, сейчасъ я рабъ Его, и въ Немъ позналъ такую радость, которая казалась мнѣ невѣроятной, когда жилъ по мірскимъ обычаямъ.
Я сталъ тѣмъ, кого въ міру назвали бы "юродивымъ"; въ дѣйствительности, всѣ истинно вѣрующіе православные – "юродивые". Такое "юродство" оправдывается тѣмъ, что Православная Церковь – это единственная истинная Церковь Христова, это реальность, передъ которой римскій католицизмъ и всѣ другіе церкви кажутся въ лучшемъ случаѣ блѣдными тѣнями. Это утвержденіе можетъ показаться тебѣ чѣмъ-то чрезвычайнымъ, и въ качествѣ доказательства я лишь могу попросить тебя самой открыть эту истину.
Все совершается по волѣ Господней, за послѣдніе два года я очень ясно и отчетливо убѣдился въ этомъ. Пути Господни очень часто видятся намъ неисповѣдимыми, но цѣль Его всегда одна – привлечь къ Себѣ людей. Какъ я уже сказалъ, значеніе того, что ты мнѣ написала именно сейчасъ, мнѣ совершенно понятно: Господь желаетъ использовать меня, чтобы разсказать тебѣ о Православіи – не оттого, что я отличаюсь какой-то добродѣтелью, а потому, что Истина Божія настолько могущественна, что ее можно познать даже черезъ кого-то, настолько недостойнаго, какъ я.
То, что я пишу, должно быть, для мірского воспріятія кажется очень необычнымъ. Насколько знаю, ты за свою жизнь всего лишь дважды была въ православной церкви; ты сама, вѣроятно, формально все еще принадлежишь къ англиканской церкви и сейчасъ отдалилась отъ всякихъ религій, а твой мужъ, вѣроятно, протестантъ или вообще не имѣетъ религіозныхъ убѣжденій, возможно, на сто миль вокругъ васъ нѣтъ ни одной православной церкви, и ты сама, можетъ быть, считаешь православіе чѣмъ-то "восточнымъ" и экзотическимъ. Потому очень "непохоже", что тебѣ предстоитъ стать православной, и все же я совершенно увѣренъ въ этомъ и чувствую, что ты признаешь, что слова мои – по волѣ Божіей. Если это такъ и, поскольку Православная Церковь – это одна-единственная Церковь Христова, то ничто изъ того, что можетъ сказать или сдѣлать міръ, не помѣшаетъ тебѣ стать истинной послѣдовательницей Господа нашего въ Его Церкви, а Господь нашъ въ должное время отыщетъ средства, чтобы достичь Своихъ цѣлей.
Не буду пытаться разсказать многое о Православіи въ этомъ письмѣ, а подожду, какъ ты отреагируешь на то, что я уже сказалъ. И все, что я могу сказать, будетъ, конечно, очень несовершеннымъ выраженіемъ истинъ, которыя ничего не значатъ, пока не прочувствуешь ихъ всей душой. Если ты дѣйствительно интересуешься Православіемъ, могу начать посылать тебѣ книги (не столько книги о Православіи, сколько книги очень практичныхъ духовныхъ совѣтовъ, необходимыхъ для повседневной жизни православныхъ), иконы и т.д., а также познакомлю тебя съ православными людьми. Напримѣръ, я знаю въ Нью-Іоркѣ одну очень благочестивую американскую дѣвушку, новообращенную Русской Церкви. Одна изъ радостей православной жизни – это знать такихъ людей (даже если только по перепискѣ), такъ какъ въ Православіи особенно очень сильно чувство соборности, среди благочестивыхъ людей всѣ – "братья" и "сестры", и слова эти не просто метафоры. Всѣ, кто называются православными христіанами, вмѣстѣ стремятся къ одной и той же цѣли, и даже въ этой жизни у насъ есть предчувствіе совершенной любви, которая объединитъ насъ съ Господомъ нашемъ въ вѣчномъ Царствіи, что Онъ уготовалъ для вѣрныхъ Своихъ.
Православіе – это подготовка душъ для сего Царства, Царствія Небеснаго. Отколовшіеся церкви въ большей или меньшей степени забыли эту истину и пошли на компромиссъ съ міромъ, лишь единое Православіе осталось не отъ міра сего. Цѣль православной жизни (которой, къ несчастью, не всѣ мы достигаемъ) – это жить въ этой жизни, постоянно помня о жизни грядущей, въ дѣйствительности видѣть даже въ этой жизни, благодаря милости Господней, начало жизни той. Это смыслъ радости, о которой я только что говорилъ, и которая для меня является сильнѣйшимъ доказательствомъ истиннаго Православія. Святой всегда пребываетъ въ этой радости, позднѣе я разскажу тебѣ нѣсколько чудесныхъ исторій о нѣкоторыхъ изъ нашихъ современныхъ русскихъ святыхъ и о томъ, какъ въ нихъ выражалась эта радость. Единое Православіе продолжаетъ взращивать святыхъ: я имѣю въ виду подлинныхъ святыхъ, а не просто "хорошихъ людей". Нынѣшній архіепископъ Сан-Франциско (онъ пріѣхалъ сюда недавно изъ Парижа) – это такой человѣкъ. Онъ ведетъ жизнь настоящаго самоотверженія – строжайшій аскетизмъ (онъ даже никогда не ложится), полнѣйшее самоотреченное служеніе ближнимъ, христіанская доброта и терпѣніе даже передъ лицомъ злѣйшихъ и клеветническихъ навѣтовъ (ибо діаволъ очень сильно и многими способами нападаетъ на нашу Церковь), но всегда онъ полонъ такой любви и радости, что въ его присутствіи всегда въ душѣ радость и миръ, даже у тѣхъ, кто находится въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, въ скорби.
Это очень трудныя времена. Большинство священниковъ и епископовъ, которыхъ я знаю (епископы нашей Церкви очень близки къ людямъ, очень доступны и сердечны въ обращеніи), убѣждены, что это послѣдніе дни міра и что близко правленіе антихриста. Конечно, этой темой очень легко увлечься, но Господь нашъ велѣлъ намъ быть готовыми къ знакамъ конца, а тѣ, кто ими не интересуется, будутъ ими только обольщены. Въ сіи послѣдніе дни, какъ сказалъ намъ Господь нашъ, оставшееся число истинно вѣрующихъ христіанъ будетъ очень маленькимъ; огромное большинство тѣхъ, кто называетъ себя христіанами, будутъ привѣтствовать антихриста какъ Мессію. Поэтому недостаточно быть "несектантскимъ" христіаниномъ; тѣ, кто не является истинно православными христіанами, принадлежатъ къ "новому христіанству", "христіанству" антихриста. Папа римскій и практически всѣ остальные сегодня говорятъ о "преобразованіи міра" христіанствомъ: священники и монахи принимаютъ участіе въ демонстраціяхъ за "расовое единство" и тому подобныя цѣли. Это не имѣетъ ничего общаго съ Христіанствомъ, а только отвлекаетъ людей отъ ихъ истинной цѣли – Небеснаго Царствія. Грядущій вѣкъ "мира", "единства" и "братства", если онъ наступитъ, будетъ царствомъ антихриста – по названію будетъ христіанскимъ, а по духу – сатанинскимъ. Сегодня всѣ ищутъ счастья на землѣ и думаютъ, что это – "христіанство"; истинно православные христіане знаютъ, что вѣкъ преслѣдованій, который вновь начался при большевикахъ, еще не кончился и что только цѣной многихъ страданій и испытаній мы приготовимся войти въ Царствіе Небесное.
Сердце Православія – молитва, и я могу искренне сказать, что до того, какъ самъ открылъ Православіе, не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о томъ, что такое молитва и какая сила заключена въ ней. Конечно, часто молятся равнодушно, но много разъ бывало (я говорю и про себя, и про другихъ), когда молитва была дѣйствительно искренней, сильной, съ чистосердечными слезами покаянія, и я позналъ радость отъ того, что молитвы мои услышаны. Вдохновленный этимъ, я, немощный и недостойный, имѣлъ дерзновеніе обращаться ко Господу нашему, Его Матери и Его святымъ (я не зналъ никого, кто молится святымъ съ такой вѣрой и ревностью, какъ православные вѣрующіе), и ихъ руководство моей жизнью для меня такъ же реально, какъ собственное дыханіе.
Пожалуйста, прости меня за то, что такъ много говорю о себѣ, но для меня невозможно говорить о Православіи абстрактно; все, что знаю о немъ, я позналъ на собственномъ опытѣ. Ну, и если говорить о внѣшнихъ вещахъ, тебѣ, быть можетъ, интересно будетъ знать, что я не возвращался въ научный міръ и никогда уже не вернусь, что я все еще не закончилъ свою книгу, которую началъ два года назадъ – и изъ-за ея объема, и изъ-за измѣненія моихъ взглядовъ съ тѣхъ поръ (эта книга – обсужденіе духовнаго состоянія современнаго міра въ свѣтѣ Православной Истины), и что, по волѣ Божіей, я намѣреваюсь стать монахомъ (быть можетъ, и священникомъ) для служенія Господу, когда черезъ годъ-другой закончу книгу.
Что касается твоего состоянія, то оно кажется мнѣ совсѣмъ не безнадежнымъ, а наоборотъ. Ты чувствуешь себя оставленной Господомъ, но все же у тебя хватило силъ сопротивляться бѣсовскому искушенію твоего отца и съ терпѣніемъ перенести все, что случилось. Я думаю, Богъ ослабилъ тебя, чтобы ты приготовилась въ Немъ обрѣтать свои силы и путь къ твоимъ силамъ лежитъ въ Православіи.
Напиши поскорѣе и разскажи мнѣ, что у тебя на сердцѣ. Если я говорилъ дерзко, то изъ-за сильной увѣренности и радости, которыми Господь нашъ наполняетъ меня, когда причащаюсь Его Пресвятаго Тѣла и Крови. Какъ же мнѣ не говорить дерзновенно, когда мнѣ ясно, какъ день, что все въ этомъ мірѣ проходитъ мгновенно, а все, что остается, это Господь нашъ и несказанное Царство, которое Онъ уготовалъ для насъ – тѣхъ, кто возлагаетъ на себя Его легкое иго (и въ самомъ дѣлѣ, какъ легко это иго, которое невѣрующимъ кажется столь тяжелымъ!) и слѣдуетъ за нимъ. Молись за меня, недостойнаго всего того, что мнѣ было дано.
Твой во Христѣ братъ.
P.s. Въ какой части Иллинойса находится Урса? Это рядомъ съ какимъ-нибудь большимъ городомъ?
P.p.s. Вкладываю нѣсколько статей на англійскомъ, которыя недавно появились въ маленькомъ журналѣ прихода Санъ-Франциско.
P.s. еще. "Уже написавъ это письмо, сталъ читать одного изъ нашихъ Отцовъ недавняго прошлаго (онъ умеръ въ 1907 году и еще не канонизированъ) – отца Іоанна Кронштадтскаго. Я каждый вечеръ читаю нѣсколько страницъ изъ него и обычно нахожу, что онъ очень прямо и откровенно говоритъ со мной о какой-нибудь проблемѣ или обстоятельствѣ, которыя безпокоятъ меня въ тотъ день. Сегодня вечеромъ, сразу же послѣ окончанія этого письма, прочелъ (открывъ книгу наугадъ) слѣдующее:
Какъ мать младенца учитъ ходить, такъ Господь учитъ насъ живой вѣрѣ въ Него. Поставитъ мать младенца, оставитъ его самому себѣ, а сама отойдетъ, потомъ велитъ идти къ себѣ младенцу. Младенецъ плачетъ безъ матери, хочетъ идти къ ней, но боится сдѣлать попытку шагнуть, усиливается подойти, дѣлаетъ шагъ и падаетъ. Такъ и христіанина Господь учитъ вѣрѣ въ Него, какъ ходьбѣ (вѣра – духовный путь): такъ слаба наша вѣра, такъ начальна, какъ младенецъ, учащійся ходить. Оставляетъ его Господь Своею помощью и предаетъ діаволу или разнымъ бѣдствіямъ и скорбямъ, а потомъ, когда будетъ крайне нужна помощь – избавиться отъ нихъ (когда намъ нѣтъ нужды въ спасеніи, дотолѣ мы готовы не ходить къ Нему), какъ бы велитъ смотрѣть на Себя (непремѣнно смотри на Него) и идти къ Нему за этою помощью; христіанинъ усиливается это дѣлать, раскрываетъ сердечные очи (какъ младенецъ разставляетъ ноги), усиливается ими увидѣть Господа, но сердце, не наученное лицезрѣнію Божію, боится своей смѣлости, спотыкается и падаетъ: врагъ и прирожденная испорченность грѣховная закрываютъ его открывающіеся сердечные очи, отрываютъ его отъ Господа, и онъ не можетъ подойти; а Господь близко, готовъ взять къ Себѣ, какъ бы на руки, только подойди къ Нему вѣрою, и – когда сдѣлаешь усиліе совсѣмъ увидѣть Его сердечными очами вѣры, попадешь на Него сердечнымъ зрѣніемъ, – тогда Онъ простираетъ Самъ руку помощи, какъ бы беретъ на руки и прогоняетъ враговъ, и чувствуетъ христіанинъ, что попалъ на руки къ Самому Спасителю. Слава благости и премудрости Твоей, Господи! Такъ въ насиліяхъ отъ діавола и во всѣхъ скорбяхъ надо живо узрѣть сердцемъ какъ бы предъ глазами находящуюся, человѣколюбивую утробу Спасителя; смотрѣть смѣло въ эту утробу, какъ въ неистощимую сокровищницу благости и щедротъ, и молить Его всѣмъ сердцемъ, чтобы Онъ удѣлилъ и намъ отъ этого неиссякающаго источника благости и помощи духовной: и тотчасъ просимое будетъ получено. Главное: вѣра или сердечное зрѣніе Господа и надежда получить отъ Него, какъ Всеблагаго, все. Истинно! Съ опыта! Этимъ также учитъ Господь сознавать свою крайнюю нравственную немощь безъ Него, сокрушаться сердцемъ и быть въ постоянно молитвенномъ расположеніи духа!" ("Моя жизнь во Христѣ" – ред.)
Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.
 Господь сказал: «любите врагов ваших» (Мф. 5:44). Когда идет речь теперь, в наше время, о Св. Евангелии и о том, каковы заповеди евангельские, то часто приходится слышать такие слова: «Конечно, Евангелие прекрасно и возвышенно, но некоторые заповеди его просто невозможно исполнить». И когда вы будете спрашивать, что же, именно, люди считают в Евангелии неисполнимым, они как раз укажут вот именно на то, что сейчас я сказал, на заповедь о любви к врагам, и говорят: «Но это уж невозможно исполнить!» Т.е. как раз то, чем наша святая вера, чем наше Евангелие так чудесно отличается от всех других религий и вероисповеданий и учений религиозных. То самое, что так возвышает наше Евангелие, эти люди объявляют неисполнимым.
Господь сказал: «любите врагов ваших» (Мф. 5:44). Когда идет речь теперь, в наше время, о Св. Евангелии и о том, каковы заповеди евангельские, то часто приходится слышать такие слова: «Конечно, Евангелие прекрасно и возвышенно, но некоторые заповеди его просто невозможно исполнить». И когда вы будете спрашивать, что же, именно, люди считают в Евангелии неисполнимым, они как раз укажут вот именно на то, что сейчас я сказал, на заповедь о любви к врагам, и говорят: «Но это уж невозможно исполнить!» Т.е. как раз то, чем наша святая вера, чем наше Евангелие так чудесно отличается от всех других религий и вероисповеданий и учений религиозных. То самое, что так возвышает наше Евангелие, эти люди объявляют неисполнимым.